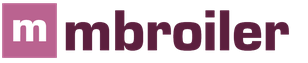Поэтика историческая. Вячеслав михайлович головко историческая поэтика русской классической повести Историческая поэтика как наука
В. Н. ЗАХАРОВ
Петрозаводский государственный университет
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА И ЕЕ КАТЕГОРИИ
Известны разные исторические концепции поэтики. Наиболее распространенными оказались нормативные поэтики. Они широко представлены во все времена у многих народов. Нормативные поэтики редко выражались в тексте - чаще они существуют в виде недекларированного свода правил, следуя которому автор сочинял, а критик судил написанное. Их почва - исторический догматизм, убеждение в том, что есть образцы искусства, существуют каноны, обязательные для всех. Наиболее знаменитые нормативные поэтики - послание «К Пизонам» Горация, «Поэтическое искусство» Буало, но нормативными были поэтика фольклора, поэтика древних и средневековых литератур, поэтика классицизма и социалистического реализма. Иная концепция поэтики разработана Аристотелем. Она была уникальна - уникальна, потому что научна. В отличие от других Аристотель не давал правила, а учил понимать и анализировать поэзию. Это соответствовало его пониманию философии как науки.
На протяжении почти двух тысячелетий его философская поэтика оставалась единственной научной концепцией. Открытие сначала арабского перевода, а затем и греческого оригинала поэтики Аристотеля дало филологам некий «сакральный» текст, вокруг которого возникла обширная комментаторская литература, возобновившая традицию научного изучения поэтики. Более того - поэтика Аристотеля во многом предопределила тезаурус и круг проблем традиционного литературоведения: мимесис, миф, катарсис, проблема поэтического языка, анализ литературного произведения и др. Она же определила и концепцию поэтики (учение о поэзии, наука о поэзии, наука о поэтическом искусстве). Именно в таком значении поэтика сначала была долгое время единственной литературно-теоретической дисциплиной, а затем осталась главным, самым существенным разделом теории литературы. Среди более или менее удачных и неудачных1 концепций это лучшее определение поэтики.
1 В ряду неудачных концепций и определений поэтики следует назвать представление «поэтики как науки о формах, видах, средствах и способах организации произведений словесно-художественного творчества, о струк-
В современном литературоведении слово «поэтика» употребляется и в иных значениях: например, поэтика мифа, поэтика фольклора, поэтика античной литературы, поэтика древнерусской литературы, поэтика романтизма/реализма/символизма, поэтика Пушкина/Гоголя/Достоевского/Чехова, поэтика романа/повести/сонета и т. д., поэтика фантастического/трагического/комического, поэтика слова/жанра/сюжета/композиции, поэтика зимы/весны/лета и др. Это разноречие приводится к общему знаменателю, если иметь в виду, что в данном случае поэтика - это принципы изображения действительности в искусстве, иначе говоря: принципы изображения действительности в мифе, фольклоре, в литературах разных исторических эпох, в творчестве конкретных писателей, в различных жанрах и т. п., принципы изображения фантастического, трагического, комического, зимы и т. д. в литературе.
Историческая поэтика была научным открытием А. Н. Веселовского. Она явилась результатом логического развития и синтеза двух литературоведческих дисциплин - истории литературы и поэтики. Правда, прежде исторической поэтики была «историческая эстетика». В отчете о заграничной командировке 1863 года А. Н. Веселовский высказал идею превращения истории литературы в «историческую эстетику»: «На долю истории литературы останутся, таким образом, одни так называемые изящные произведения, и она станет эстетической дисциплиной, историей изящных
произведений слова, исторической эстетикой»2. По сути дела, это уже концепция исторической поэтики, однако пока еще под другим названием. Там же был сформулирован и исходный постулат будущей научной дисциплины: «история литературы всегда будет иметь теоретический характер»3. Правда, пока еще со скептическим отношением к этой идее.
У А. Н. Веселовского была продумана четкая программа исследований по исторической поэтике: «наше исследование должно распасться на историю поэтического языка, стиля, литературных сюжетов и завершиться вопросом об исторической последовательности поэтических родов, ее законности и связи с историко-общественным развитием»4. Эта программа и была
турных типах и жанрах литературных сочинений» - из-за терминологического косноязычия определения поэтики (Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. С. 184); отождествление поэтики с теорией литературы (Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М., 1976. С. 6); определение поэтики как «учения о сторонах (?! - В. 3.) и элементах организации отдельного произведения» (Поспелов Г. Н. Теория литературы. М., 1978. С. 24).
2 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 396.
3 Там же. С. 397.
4 Там же. С. 448.
реализована ученым в цикле его работ по истории и теории поэтического языка, романа, повести, эпоса, поэтике сюжетов, развитию родов поэзии.
Уже в момент терминологического оформления нового научного направления, которое произошло к 90-м годам прошлого века, историческая поэтика была представлена А. Н. Веселовским как оригинальное филологическое направление со своей методологией («индуктивный метод»), со своими принципами изучения поэтики (прежде всего историзм), с новыми категориями, которые во многом предопределили судьбу исторической поэтики в русском литературоведении, - сюжет и жанр.
В современном литературоведении эти категории оказались трудноопределимыми. Отчасти это произошло потому, что ряд исследователей изменили исходное значение категории «сюжет» на противоположное, а категория «жанр» сузила свое значение в последующей филологической традиции.
У нас нет истории филологической терминологии. Только этим обстоятельством можно объяснить очевидные этимологические и лексикографические ошибки в таких, казалось бы, авторитетных изданиях, как Краткая литературная энциклопедия, Литературный энциклопедический словарь, Большая советская энциклопедия. Правда, справедливости ради следует сказать, что почти все они имеют один авторский источник - статьи Г. Н. Поспелова, с редкой настойчивостью пытавшегося аргументировать «обратное» переименование категорий «сюжет» и «фабула».
Так, Г. Н. Поспелов определяет сюжет как «предмет», но во французском языке это одно из переносных значений слова - suj et может быть предметом не в прямом, а в переносном смысле: предметом сочинения или разговора. И не только потому, что sujet антоним objet (объект). Sujet - французская огласовка хорошо известного латинского слова subjectum (субъект). Этим все и сказано. Войдя в русский язык в XIX веке, слово «сюжет» сохранило основные значения французского языка (тема, мотив, причина, довод; предмет сочинения, произведения, разговора)6, но из-за заимствованного ранее слова «субъект» не стало ни философской, ни грамматической категорией. В современных спорах о сюжете не принимается во внимание многозначность слова «сюжет» в русском и французском языках (в толковом словаре Е. Литтре отмечено две-
5 Подробнее об этом см.: Захаров В. Н. О сюжете и фабуле литературного произведения//Принципы
анализа литературного произведения. М., 1984. С. 130-136; Захаров В. Н. К спорам о жанре//Жанр и композиция литературного произведения. Петрозаводск, 1984. С. 3-19.
6 Эти значения так были определены В. Далем: «предмет, завязка сочинения, содержанье его» (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. IV. С. 382).
надцать групп его значений), многозначность слова ограничивается одним неточным значением - «предмет», причем метафорическое значение выдается за прямое.
Заимствованное слово не только сохранило в русском языке основные значения французского языка, но и приобрело новый статус - стало, благодаря А. Н. Веселовскому, категорией поэтики.
Происхождение термина «фабула» Г. Н. Поспелов возводит к латинскому глаголу fabulari (рассказывать, разговаривать, болтать), но в латинском языке у существительного fabula много и других значений: это и молва, толки, слух, сплетня, разговор, рассказ, предание; это и различные эпические и драматические жанры - рассказ, басня, сказка, пьеса. Современный латинско-русский словарь добавляет к ним еще одно значение: «фабула, сюжет»7, обозначая тем самым состояние проблемы и степень ее запутанности. Отчасти это и результат развития латинского языка как научного, вследствие чего уже в средние века слово приобрело значение филологического термина. И этим мы обязаны не этимологии слова, а латинскому переводу поэтики Аристотеля, в котором греческому слову mythos был подобран латинский эквивалент fabula. То, что раньше сделал Аристотель (именно он превратил миф из сакрального жанра в категорию поэтики, что до сих пор вызывает заинтересованные полемические возражения8), повторилось в латинском переводе: все аристотелевские определения мифа (подражание действию, сочетание событий, их последовательность) перешли на фабулу, а фабула с тех пор стала «общеупотребительным литературоведческим термином»9. Таково происхождение и традиционное значение категории «фабула», отмеченное в многочисленных литературно-теоретических текстах нового времени на разных языках, в том числе и на русском, и именно в таком значении термин был усвоен в русской филологической традиции.
В теории сюжета Веселовского фабула не играет сколько-нибудь значительной роли. Случаи употребления этого термина единичны, значение термина не оговаривается, потому что традиционно10. Оригинальна не только в русской, но и в мировой филологии сама теория сюжета, определение сюжета не через противопоставление сюжета фабуле, а через его отношение к мотиву.
Г. Н. Поспелов утверждал, и этому поверили и повторяют
7 Дворецкий И. X. Латинско-русский словарь. М., 1976. С. 411.
8 Лосев А. Ф. История античной эстетики: Аристотель и поздняя классика. М., 1975. С. 440-441.
9 Аристотель и античная литература. М., 1978. С. 121.
10 См., например: Веселовский А. Н. Историческая поэтика. С. 500, 501.
его оппоненты11, что традиция «обратного» переименования сюжета и фабулы идет от А. Н. Веселовского, что именно он свел сюжет к развитию действия 12. Но Веселовский нигде не сводил сюжет к развитию действия - более того настаивал на образной природе сюжета и мотива. Мотив у Веселовского - «простейшая повествовательная единица, образно ответившая на разные запросы первобытного ума или бытового наблюдения»13. Сюжет - «комплекс мотивов», сюжеты - «это сложные схемы, в образности которых обобщились известные акты человеческой жизни в чередующихся формах бытовой действительности. С обобщением соединена уже и оценка действия, положительная или
отрицательная» . В свою очередь, эти «комплексы мотивов» и «сложные схемы» подвергаются у Веселовского тематическому обобщению и в анализе конкретных сюжетов15, и в теоретическом определении сюжета: «Под сюжетом я разумею тему, в которой снуются разные положения-мотивы; примеры: 1) сказки о солнце, 2) сказки об увозе»16. Здесь сюжет - тема повествования, обобщающая схематическую
последовательность мотивов. В целом сюжет у Веселовского - категория повествования, а не действия.
Еще одна ошибка Г. Н. Поспелова в том, что он упрекает формалистов (прежде всего В. Б. Шкловского и Б. В. Томашевского), что их употребление терминов фабула и сюжет «нарушает исходное значение слов»17. На самом деле - наоборот: отнеся фабулу к порядку событий, а сюжет к их изложению в произведении, формалисты лишь раскрыли традиционное значение этих категорий в русском литературоведении, узаконили противопоставление сюжета и фабулы, которое уже было осознано ранее Ф. М. Достоевским, А. Н. Островским, А. П. Чеховым.
Нередко заимствованное слово меняет свое значение. У Веселовского слово жанр употребляется в несовременном терминологическом смысле, оно сохраняет множественность значений французского слова genre и является синонимом не менее многозначному в XIX веке русскому слову «род». В полном соответствии с языковыми нормами Веселовский называл жанрами (или родами) и эпос, лирику, драму, и типы литера-
11 См., например: Эпштейн M. Н. Фабула//Краткая литературная энциклопедия. М., 1972. Т. 7. Стлб. 874.
12 Одно из последних утверждений на этот счет: Поспелов Г. Н. Сюжет//Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 431.
13 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. С. 500.
14 Там же. С. 495.
16 Там же. С. 500.
17 Поспелов Г. Н. Сюжет//Краткая литературная энциклопедия. Т. 7. Стлб. 307.
турных произведений: поэмы, романы, повести, рассказы, басни, элегии, сатиры, оды,
комедии, трагедии, драмы и т. д. Разграничение значений категорий «род» и «жанр» произошло в двадцатые годы, и это понятно - терминологическая синонимия нежелательна: большинство литературоведов стали называть родами эпос, лирику, драму, а жанрами - типы литературных произведений. Уже в двадцатые годы жанр в таком понимании был осознан как ключевая категория поэтки. Именно тогда было категорично сказано: «исходить поэтика должна именно из жанра. Ведь жанр есть типическая форма целого произведения, целого высказывания. Реально произведение лишь в форме определенного жанра»18.
Сегодня историческая поэтика уже имеет свою историю. Она прошла тернистый путь признания через непонимание и неприятие. Длительная критика открытий А. Н. Веселовского имела ярко выраженный конъюнктурный характер и велась с позиций формальной, социологической и «марксистской» школ поэтики, но вряд ли случайно, что бывший «формалист» В. М. Жирмунский стал составителем и комментатором работ А. Н. Веселовского по исторической поэтике (Л., 1940), идея исторической поэтики была поддержана О. М. Фрейденберг19, оригинально развита в непубликовавшихся в 30-50-е годы работах М. М. Бахтина20, в опубликованных книгах В. Я. Проппа21.
Ренессанс исторической поэтики наступил в 60-е годы, когда были изданы и переизданы книги M. М. Бахтина о Рабле и Достоевском22, вышла монография Д. С. Лихачева о поэтике древнерусской литературы23, которая обусловила жанр филологических исследований и вызвала ряд подражаний. Именно в это время историческая поэтика стала складываться как научное направление: появились исследования по поэтике мифа, поэтике фольклора, поэтике разных национальных литератур и некоторых периодов их развития, поэтике литературных направлений (прежде всего поэтике романтизма и реализма), поэ-
18 Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. Л., 1928. С. 175.
19 Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936.
20 Они собраны в сборнике: Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
21 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946; Пропп В. Я. Русский героический эпос. М., 1955.
22 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. Переработанная для второго издания монография о Достоевском включала разделы, написанные с позиций исторической поэтики: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963.
23 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М.; Л., 1967.
тике писателей (Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чехова и др.), поэтике романа и других жанров. Это названия сборников статей и монографий Е. М. Мелитинского, С. С. Аверинцева, Ю. В. Манна, С. Г. Бочарова, Г. М. Фридлендера, А. П. Чудакова и др. В аспекте исторической поэтики рассматриваются многие проблемы структурных и семиотических исследований в работах В. В. Иванова и В. Н. Топорова. Своеобразными прокламациями исторической поэтики как нового филологического направления стали коллективный труд «Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения»24 и монография А. В. Михайлова, ставящая историческую поэтику в контекст мирового
литературоведения25.
Историческая поэтика после Веселовского значительно расширила свой исходный тезаурус. Она освоила и категории аристотелевой поэтики (миф, мимесис, катарсис), и традиционные категории поэтического языка (прежде всего символ и метафору). Введение в историческую поэтику других категорий было вызвано очевидной авторской инициативой: полифонический роман, мениппея, идея, диалог, гротеск, смеховая культура, карнавализация, хронотоп (М. М. Бахтин), тип героя (В. Я. Пропп), система жанров, литературный этикет, художественный мир (Д. С. Лихачев), фантастическое (Ю. В. Манн), предметный мир (А. П. Чудаков), фантастический мир (Е. М. Неёлов).
В принципе любые и традиционные, и новые, и научные, и художественные категории могут стать категориями исторической поэтики. В конечном счете дело не в категориях, а в принципе анализа - историзме (историческом объяснении поэтических явлений).
После того как одной из задач новой научной дисциплины М. Б. Храпченко объявил создание всеобщей исторической поэтики26, этот проект стал предметом научного обсуждения. Как новая модель истории всемирной литературы, подобный труд вряд ли осуществим и вряд ли в нем есть настоятельная потребность - иная, чем научное планирование работы академических институтов. Такой труд устареет уже в момент своего появления. Нужны конкретные исследования. Нужна «индуктивная» историческая поэтика. Есть потребность в исторической поэтике как оригинальном в мировой науке направлении филологических исследований, и в этом прежде всего смысл ее появления и существования.
24 Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. М., 1986.
25 Михайлов А. В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры: Очерки из истории филологической науки. М., 1989.
26 Храпченко М. Историческая поэтика: основные направления исследований/Вопросы литературы. 1982. № 9. С. 73-79.
Все, с чем чел. имеет дело в своей жизни, является или вещами, или личностями, или знаками. Лит-ра как один из видов искусства также является деятельностью семиотической - знаковой.В качестве знаков могут выступать как специальные сигналы, выработанные людьми д/общения между собой (например, слова), так и вещи или живые существа Сущность знака заключается в том, что собою он замещает нечто. В качестве семиотической деятельности искусство уходит своими корнями в магический обряд, оперировавший с заместителями тех объектов или сущностей, на которые направлялось магическое воздействие.
У каждого знака имеется три стороны: означающая сторона, или иначе - сигнальное «имя» знака, означаемая - значение знака и актуализируемая - его смысл. Каждая из этих сторон является одним из тех семиотических отношений, которые в совокупности и делают знак знаком.
Сигнал - это отношение знака к определенному языку. Если нет соответствующего языка, не может быть и знака. А говоря о текстах, мы имеем в виду не только вербальные (словесные), но и любые другие конфигурации знаков наделенные смыслом. Связный текст наполнен потенциальными смыслами, которые воспринимающее сознание призвано актуализировать, т.е. выявить и сделать д/себя действенными, концептуальными.
Перечисленные свойства знаковости - конвенциональность, референтность и концептуальность - присущи любой семиотической деятельности, включая все виды деятельности художественной. Последняя обращена к нашим ментальным (духовно практическим) возможностям восприятия знаков со стороны: а) внутреннего зрения; б) внутреннего слуха и в) внутренней (недискурсивной, грамматически не оформленной) речи.
Лит-ра заметно выделяется среди прочих видов искусства тем, что пользуется уже готовой, вполне сложившейся и наиболее совершенной семиотической системой - естественным человеческим языком. Однако она пользуется возможностями этого первичного языка лишь д/того, чтобы создавать тексты, принадлежащие вторичной знаковой системе. Значения и смыслы речевых (лингвистических) знаков в художественных текстах сами оказываются «именами» других - сверхречевых, металингвистических - знаков.
Эти вторичные знаки чаще всего именуют мотивами. В тексте, понимаемом как система мотивов, художественной значимостью обладают не сами слова и синтаксические конструкции, но их коммуникативные функции: кто говорит; как говорит; что и о чем; в какой ситуации; к кому адресуется?
Лит-ные тексты обращены к нашему сознанию не прямо, как это происходит в случаях нехудожественной речи, а через посредство нашего внутреннего зрения, нашего внутреннего слуха и нашего протекающего в формах внутренней речи сопереживания героям лит-ых произведений.
Но чтобы совокупность знаков - факторов рецептивной (воспринимающей) деятельности сознания - предстала текстом, необходимо наличие трех фундаментальных моментов: манифестированности (внешней явленности в знаковом материале), что отличает тексты от картин воображения; пространственной (рамка, рампа) или временной (начало и конец) внешней отграниченности, что отличает тексты в качестве знаковых комплексов от таких (безграничных) знаковых комплексов, какими выступают языки;внутренней структурности, чем текст отличается от алфавита или случайного набора знаков.
Всякий знак, включая и такие специфические знаковые образования, какими пользуется искусство, помимо семантичности (способности соотноситься с замещаемой реальностью) обладает двумя важнейшими структурообразующими свойствами: синтагматичностью и парадигматичностью.
Если синтагматичность делает знак элементом текста, то парадигматичность делает его элементом языка. В качестве механизма коммуникации язык представляет собой набор парадигм. Языковая парадигма - это вариативный ряд знаков, из которого д/построения связного и осмысленного текста всякий раз необходимо выбрать лишь один.
Несущей конструкцией субъектной организации лит-ых произведений выступает система внутритекстовых
высказываний, или дискурсов. Структурной единицей данного уровня является участок текста, характеризующийся единством субъекта и способа высказывания. Смена субъекта речи (кто говорит) в ходе последовательного наращивания текста - наиболее очевидная граница между двумя соседними сегментами субъектной организации. Говоря о различных способах высказывания, мы имеем в виду не только такие специфические компоненты цитатного типа, как письмо, дневниковая запись, документ, но прежде всего основные композиционные формы повествования, а также диалогические реплики и медитативные рассуждения.
^ Эстетическая природа лит-ры.
Без отвечающего строю эмоциональной рефлексии объекта эстетическое отношение невозможно.
Д/сообщения о своем горе достаточно первичной знаковой системы (языка). Чувство же, высказываемое в элегии, сочиненной по поводу утраты, - переживание вторичное и опосредованное (в частности, опосредованное жанровой традицией написания элегий). Это «очищение» аффекта скорби в катарсисе эмоциональной рефлексии требует от автора творческого самообладания, одухотворенного овладения своей эмоциональной жизнью, и, как следствие, обращения к вторичной знаковой системе - художественному языку элегической поэзии. эстетическое отношение представляет собой нераздельное (синкретичное) единство ценностного и познавательного. Статус такого отношения может быть определен словесной формулой Бахтина: причастная вненаходимость.
Творчество художника есть деятельность, удовлетворяющая эстетические потребности духовной жизни личности и формирующая сферу эстетических отношений между людьми. Поэтому вслед за Бахтиным можно сказать, что «эстетическое вполне осуществляет себя только в искусстве».
Сотворение художественной реальности воображенного мира выступает необходимым условием искусства. Без этого никакая семиотическая деятельность составления текстов не обретает художественности. Эстетическая деятельность является деятельностью переоформляющей, придающей чему-либо новую, вторичную форму.
Оригинальность- принципиальная характеристика творческого акта, а подлинным произведением искусства может быть признано лишь нечто поистине уникальное.
любое произведение искусства характеризуется модусом художественности (способом осуществления ее законов). Понятие «модуса» было введено в современное литературоведение Фраем. Героика, трагизм, комизм и другие модальности эстетического завершения (катарсиса) теорией лит-ры нередко сводятся к субъективной стороне художественного содержания: к видам пафоса идейно-эмоциональной оценки или к типам авторской эмоциональности.
Из героич. типа появл. ещё два типа завершения: сатирическое и трагическое.
сатирическое: эстетическое освоение неполноты своего присутствия в мире. Сатрич. модус появл. в летописи. Сатирическое присуще не только герою, но и всей ситуации.
трагизм диаметрально противоположен сатирич. Серьезное отношение к миру.
Комизм: я не способно присутствовать в мире без маски.
идиллика предполагает неразделенность я для себя и я для других. В элегии недостаточность я. В рл. элегизм открыл Карамзин.
драматизм: избыточность внутренней заданности. Ирония: открыли романтики; притворное приятие чужого пафоса. Начиная с романтиков в тексте могут сочетаться неск-ко модусов, но один доминирует.
^ Коммуникативная природа лит-ры.
По отношению к герою (эстетическому объекту произведения) позиция адресата - это позиция сопереживания: узнавания в условностях воображения аналогов жизненной реальности. По отношению к эстетическому субъекту произведения - это позиция сотворчества: усмотрения творческой воли автора в целостной завершенности воображаемого мира и его носителя - текста.
Писатель - это первочитатель собственного текста. Формируя в своем сознании самый предварительный, черновой вариант любой фразы будущего произведения, он уже ориентируется (хотя по большей части и бессознательно) на потенциальное читательское восприятие, которое должно будет восполнить знаковую реальность текста эстетической реальностью образного видения мира. И фраза в итоге рождается не «сама по себе», а в мысленной встрече с иными сознаниями. Разумеется, читатель всегда может уклониться от сотворческогоо сопереживания: может «не поверить» автору, не разделить авторских убеждений, с позиций собственного вкуса не принять авторской поэтики. Но во всех подобных случаях он уклоняется от художественного восприятия как такового, не входит в эстетическую ситуацию произведения как ее неотъемлемое звено - эстетический адресат.
Коммуникативное своеобразие эстетического (конвергентного) дискурса состоит в том, что он не предполагает дискуссионного отношения между участниками общения, не предполагает столкновения альтернативных позиций.
Писатель является организатором коммуникативного события такого рода (сближение, но не слияние - это и есть конвергенция). Его усилиями порождается не только текст, не только виртуальная реальность воображенного художественного мира, составляющая референтную функцию текста, но и виртуальная фигура Автора, выступающая креативной функцией данного текста. Аналогичным образом писатель создает и виртуальную инстанцию адресата - рецептивную функцию своего текста.
Реальный читатель лит-го текста выступает по отношению к нему как реализатор организуемого и направляемого фигурой автора эстетического коммуникативного события.
Назначение общей теории лит-ры, как и ее специальной теории (поэтики), в том и состоит, чтобы в общественном сознании сохранялся и поддерживался достаточно высокий уровень культуры художественного восприятия. Утрата такой культуры делает «немыми» тексты даже самых значительных художественных шедевров, что способно привести к деградации и умиранию лит-ры как сферы духовного общения.
Сочинение лит-го произведения по своим коммуникативным параметрам сродни любому иному роду общения людей, протекающего по-разному в различных «речевых жанрах» (Бахтин) культуры. В самом общем виде такой жанр - это известного рода взаимная условленность (конвенциональность) общения, объединяющая субъекта и адресата высказывания в их отношении к предмету речи.
Лит-ная классика 19 столетия предполагает высокую эстетическую культуру сопереживания: эмоциональной рефлексии как развитой способности усмотрения общечеловеческого в своей индивидуальности и личностного самоопределения в общечеловеческом контексте. «Обыкновенно, получая истинно художественное впечатление, - утверждал Толстой, - получающему кажется, что он это знал и прежде, но только не умел высказать». Реалистический читатель есть жизненный аналог персонажа - только в иной, в своей собственной экзистенциальной ситуации.
^ Художественная словесность и другие виды искусства.
«Живописное»
Установка на описание и на максимальную близость в нем к изобразительным искусствам характерна д/антологических стихотворений в русской поэзии - от Батюшкова до Фета. Например, у Пушкина описана, как свидетельствует название стихотвоения, реальная «царскосельская статуя»: Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.Дева печально сидит, праздный держа черепок.Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.
Иное дело - установка на «невыразимое», т.е. на музыкальность. Видимо, первая (хронологически) в русской поэзии декларация такой художественной задачи - в «Невыразимом» Жуковского. Но как раз
Все это - конечно, вместе с соответствующими метроритмическими открытиями - было подхвачено символистами (особенно Блоком), не случайно впервые поставившими проблему «звукообраза» (например, Вяч. Иванов в статье о «Цыганах»).
В истории европейской поэзии известная аналогия - «пластичность» поэзии парнасцев (например, знаменитые «Слоны» Леконт де Лиля) и «музыкальность» Верлена (скажем, не менее известная «Осенняя песня» - Итоги экскурса в историю лит-ры таковы: вопрос о соотношении (взаимосвязи и границах) лит-ры и «смежных» видов искусств нельзя считать отвлеченным, представляющим «чисто теоретический» интерес. Теория возникает из практических потребностей лит-го процесса; она - результат рефлексии над практикой.
Общепризнанные результаты развития науки в этой особой области должны быть отражены в справочниках.
Назовем прежде всего энциклопедическую статью Дмитриевой о соотношении лит-ры с другими видами искусства. С точки зрения теоретической поэтики вопрос в ней не свещается; взаимоотношения лит-ры с другими видами искусств рассмотрены под углом зрения исторической эстетики. Зато в ряде справочников существует
большое количество статей о взаимосвязях лит-ры и кино, радио, телевидения.
^ Лит-ра - живопись
В этой области широко известна на классическая работа - трактат немецкого философа-просветителя и писателя Лессинга «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии». известно,что с критикой основных положений упомянутого трактата выступил другой философ-просветитель 2-ой пол.18в., Гердер в первом выпуске своего цикла «Критические леса, или Размышления, касающиеся науки о прекрасном и искусства…».
Ингарден «Лаокоон Лессинга», где признана правота Гердера в некоторых пунктах. у нас статья Тынянова «Иллюстрации», книга Дмитриевой «Изображение и слово» и статья Хализева «О пластичности словесных образов».
^ Лит-ра - музыка
Теперь о 2-ой линии сопоставлений. По сравнению с 1-ой заметно отсутствие работ, которые, могли бы составить классическую традицию. Показательно высказывание Глебова: «...музыкант и поэт воспринимают жизнь, слыша. Но людям важно не их восприятие, а то, чтобы они творили слышимую жизнь, т.е. населяли мир звучанием, преодолевая ужас безмолвия и ощущая восторг творчества... Понятно теперь взаимодействие музыки и поэзии.». Это высказывание полемически направлено именно против традиции, идущей от Лессинга.
В основном исследования посвящены частным вопросам на материале некоторых лит-ых эпох, в особеностй романтизма и символизма, или отдельных авторов. Особенно повезло, как ни странно, Достоевскому: наряду с приобретшей широкую популярность идеей «полифонии» в романах писателя видели признаки «симфонии».
Словесные образы предметов не предполагают наглядности в обычном смысле. Читая яркие словесные описания, мы, конечно, видим; но видим мы совсем иной предмет и иную действительность, нежели то, что было в нашем опыте и есть вокруг нас. По этому поводу можно вспомнить известную «ошибку» Лермонтова в поэме «Демон»: «Там Терек, прыгая, как львица / С косматой гривой на хребте» (давно уже было замечено, что грива бывает только у львов).
Справедливость идеи о метафорической (иногда одновременно - иронической) словесной конкретности можно подкрепить некоторыми другими примерами. Таковы фразы Ю.Олеши: «И она разорвала розовые ягодицы персика» и «подошла цыганская девочка величиной с веник», или из записных книжек И.Ильфа и Е.Петрова: «Путаясь в соплях, вошел мальчик»; «Кот повис на диване, как Ромео на веревочной лестнице».
С другой стороны, мысль о конкретнфсти, достигаемой за счет обращенности речи не на предмет, а к слушателю-читателю, и о создании образа самого говорящего иллюстрируется у Тынянова не только ссылкой на Лескова, но и весьма убедительной общей характеристикой такого рода «изобразительности»: «за речью чувствуются жесты, за жестами облик, почти осязаемый...». В этой связи можно также вспомнить теорию «речевого жеста» у А.Н.Толстого. Наконец, наряду с метафорической конкретностью словесного изображения возможна, видимо, и метонимическая.
^ Слово как материал художественного произведения.
При первом из них речь идет о «художественных возможностях» самого языка: это дает прочную опору на языковые факты, но вынуждает игнорировать внутренний контекст данного художественного произведения.
Во втором случае, наоборот, исходный пункт - смысловое целое произведения; выясняются художественные задачи, решению которых служит речевая структура.
В справочной, учебной и научной лит-ре В одних случаях принципиальное различие между двумя выделенными нами подходами вообще не подвергается рефлексии. Такие определения мы назовем «нейтральными». В других случаях это различие, напротив, исходный пункт, а определение специфики предмета - результат выбора одного из двух альтернативных путей решения вопроса (назовем такие определения «альтернативными»). Наконец, третью группу составляют определения, которые строятся на объединении противоположных подходов (назовем их «компромиссными»).
1) в нейтральных определениях отмеченное нами основное противоречие отнюдь не разрешается. Оно просто остается неосознанным.
2)Кожинов отграничивает поэтику от стилистики (лингвистической), полагая, что лишь поэтика способна увидеть в «речи художественной» форму «искусства слова», поскольку «это не речь, а ее художественное претворение...
Художник слова только использует речь в качестве материала д/создания специфического явления - формы
определенного искусства...». «Художественность речи состоит не в самом по себе использовании этих речевых явлений (экспрессивность, индивидуализированность, тропы, "особые лексические ресурсы", синтаксические фигуры и т.п.), но в характере, в принципе их использования...».
3)Противоположность двух идей: особого «поэтического языка» и «художественной речи», представляющей лишь особое использование общенародного языка, - вполне осознана в специально посвященных этой проблеме работах Винокура .
Преодолеть ее ученый стремится двумя способами. 1)уподобив соотношение между прямым и поэтическим значениями слов соотношению между языковыми значениями слов и содержанием произведения.
Чтобы разобраться в логике исследователя, пример: название романа Толстого «Война и мир». Хорошо известно, что слово «мир» в этом романе многозначно (оно и писалось в тексте по-разному: то с «i», то с «и»); неоднозначно, кстати, и слово «война». Можно ли, сравнивая и выводя общий принцип соотношения прямых и непрямых значений слов «мир» или «война», прийти к истолкованию смысла произведения? Вряд ли, так как д/выражения смысла автору нужны были все слова, а не только названные.
В другом месте той же статьи ученый поясняет, что перейти от лингвистики к поэтике можно, увеличив объем изучаемой единицы языка. позицию Винокура в общей ситуации противостояния лингвистического и литературоведческого подходов к проблеме художественной речи можно считать компромиссной или примирительной.
Бахтин различает - в соответствии с его концепцией композиционных и архитектонических форм - целое лингвистическое и целое архитектоническое. Слово рассматривается ученым как высказывание, т.е. как единица общения, а не языка. В нем выделяются 2аспекта: «словесно осуществленная» и «подразумеваемая» части высказывания. Выражение связи между ними - интонация. именно интонация - носитель ценностного значения высказывания: «Само слово, взятое изолированно, как чисто лингвистическое явление, конечно, не может быть ни истинным, ни ложным, ни смелым, ни робким».
Таким образом, предмет авторской (эстетической) оценки и вместе с тем носитель художественной формы - не та или иная отдельная языковая форма и даже не сама речевая структура произведения в целом. Это, по Бахтину, и не отношение между значениями слов, прямым и переносным, а отношение участников общения к тому или иному предмету Речи или же к самому высказыванию, выраженное в интонации.
разные ситуации соотношения автора с читателем и со своими героями, которые зданы, скажем, стихотворениями И. Северянина и А.К.Толстого, вынуждают этих участников общения по-разному относиться и к предмету речи, и к самому высказыванию. Именно это делает практически одни и те же «средства языка», включенные в текст стихотворений (архаическую или иноязычную лексику), носителями совершенно различных художественных форм. Формы же эти выражают авторскую оценку изображенных ситуаций и точек зрения.
^ Поэзия и проза: две основные разновидности художественной речи.
Развитие русского стиха в 20в., популярность верлибра показали, что прозой не становится не только белый стих, но и стих, в котором отсутствует обычная метрическая схема. В то же время метрически упорядоченная проза, вроде «песен» Горького, стихом не считается. Поскольку метр перестал быть надежным отличительным признаком поэзии, возможна попытка опереться на более широкое понятие ритма. Но ритмически организована может быть и прозаическая речь.
Рассмотрим варианты поэтического словесного образа.
троп (метафора, метонимия, синекдоха и т.п.) - это средство создания косвенного смысла, а фигура (анаколуф, эллипсис, инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение) представляет собой связь между двумя или несколькими одновременно присутствующими во фразе словами».
В поэзии последних двух веков один и тот же словесный образ с равным успехом может быть причислен к
нескольким видам тропов. Например, «слово "парус" в стихотворении Лермонтова может быть понято одновременно и как синекдоха ("лодка" - "парус"), и как метонимия ("некто в лодке" - "парус"), и как метафора ("некто в море житейском" - "парус")».
Все сказанное ведет к следующему предположению: риторический образ, в сущности, логически истолкованный и прагматически переосмысленный поэтический символ.
под «эмблемой всегда понималось сочетание слова-знака со схематичным графическим изображением, но лишь постепенно утвердилась «строгая форма» эмблемы, состоящей «из изображения, надписи и эпиграмматической подписи». лев - гордость и насилие; волчица - алчность и себялюбие.
Тем более значимы поэтические образы этого рода в поэзии 20 в., в частности, у символистов.
Перейдем к вопросу о топосах . По Курциусу, это «твердые клише или схемы мысли и выражения», Таков, например, Это относится, сельский пейзаж.
Концепция параллелизма и природа метафоры у Веселовского
Начавшись с параллелизма, развитие образного сознания шло далее, по мысли ученого, не только в сторону сравнения. С одной стороны, действительно, «древний синкретизм удалялся перед расчленяющими подвигами знания: уравнение молния - птица, чел. - дерево сменились сравнениями: молния, как птица, чел., что дерево, и т.п.». С другой стороны, результатом «игры параллелизма» могло оказаться отождествление природного и человеческого, как бы возрождающее древний синкретизм. Птица движется, мчится по небу, стремглав спускаясь к земле; молния мчится, падает, движется, живет: это параллелизм. В поверьях о похищении небесного огня... он уже направляется к отождествлению: птица приносит на землю огонь-молнию, молния-птица». Образ, возникший из параллелизма и возрождающий древнее тождество, несомненно, метафора.
^ Специфика прозаического словесного образа
Динамика поэтического словесного образа заключается, по мысли ученого, во взаимоотношениях авторского слова с его предметом и вместе с тем в развертывании поэтического символа. Д/художественной прозы характерен образ, имеющий совершенно иную природу: он строится на взаимоосвещении и представляет собой «прозаическое иносказание». Если художественная проза включает в себя социальное разноречие, то в поэзии мы скорее встречаемся с образным двуязычием.
Подводя итоги, заметим, что бахтинскую концепцию, согласно которой прозаический образ представляет собой взаимоосвещение разных языков и стилей, вряд ли можно считать достаточно освоенной.
(Веселовский)
«Основы поэтического стиля - в последовательно проведенном и постоянно действовавшем принципе ритма, упорядочившем психологически-образные сопоставления языка; психологический параллелизм, упорядоченный параллелизмом ритмическим».
Нетрудно заметить, что зависимость между семантикой стихового слова и структурой стиха здесь уже обнаружена, хотя и на примерах из фольклора и в диахронической перспективе.
Что же касается прозаического стиля, то «в стиле прозы нет... тех особенностей, образов, оборотов, созвучий и эпитетов, икоторые являются результатом последовательного применения ритма... и содержательного совпадения, создававшего в речи новые элементы образности... <...> Речь, не ритмизованная последовательно в очередной смене падений и возвышений, не могла создать этих особенностей. Такова речь прозы». Как видно, в этом аспекте цдей Веселовского есть несомненная близость к концепции Бахтина.
^ Лит-ое произведение как событие общения.
Однако, как известно, культурный читатель должен уметь сочетать обе точки зрения - внутреннюю и внешнюю; способность приобщаться к миру героев, сопереживать им, думать над этическим значением их поступков - со способностью, воспринимая произведение, видеть, «как это сделано» (как устроен текст), и размышлять над «приемами» автора.
Произведение как эстетический объект представляет собою единое событие общения автора, героя и читателя. Художественное целое или эстетическое единство произведения - результат, как формулировал Бахтин, «тотальной реакции автора на целое героя». Читатель также реагирует на героя (а герой - на свой мир) и в то же время - на эту авторскую реакцию. Таково в общем виде содержание упомянутого «события общения». Узнать и «понять себя в герое (при сознании чуждости) - это еще психологическое, а не эстетическое отношение. Последнее представляет собою ответ читателя - вместе с автором - на смысл жизни героя, т.е. из другого плана бытия, где нет ни героя, ни его цели. «Мир героя» как эстетическая категория По.Лихачеву, «художественный» мир отличен от реального. Этот мир - «художественный» постольку, поскольку является миром героя, не нашим миром: входит в кругозор героя и (или) представляет собой его окружение.
ценностей его мира, т.е. оценки их из иной действительности. Такая оценка - результат сочетания внутренней и внешней точек зрения.
Переход персонажем границ, которые разделяют части или сферы изображенного пространства-времени, и является художественным событием.
Например, в романе «Евгений Онегин» противопоставлены Петербург и деревня; поэтому важнейшие сюжетные события (две встречи главных героев) оказываются возможны благодаря перемещению персонажей из одной пространственной сферы в другую.
Итак, событие - переход персонажа через границу, разделяющую «семантические поля» в тексте (с точки зрения
Внутренние границы в мире героя имеют, по-видимому, различный характер с авторской точки зрения (цель автора) и с точки зрения героя (цель героя), представляя собою поэтому и смысловой (семантический) рубеж, и препятствие. Если переход д/героя случайный, мгновенный и беспроблемный, то граница имеет в первую очередь смысловое значение; если автор стремится акцентировать трудность перехода, он делает предметом изображения свойства границы как реального д/героя препятствия. Отсюда возможность различить варианты как самих событий, так и их последовательности.
По Проппу, сюжет - «ряд поступков персонажей и событий их жизни».
Иногда можно разграничить также события «необходимые» и такие, которых «могло бы и не быть». Первые - там, где цели автора и героя совпадают.
Событие воспринимается в качестве избыточного, когда оно «бесцельно», с точки зрения героя, и не продвигает сюжет, с точки зрения автора: таковы в «Преступлении и наказании» встреча Раскольникова с девочкой на бульваре или разговор его с Дуклидой (в отличие от встречи с Мармеладовым и разговора с мещанином). Цель автора в данном случае - не продвинуть сюжет, а дать толчок рефлексии персонажа.
^ Простейший способ освоения сюжета читателем - пересказ.
В результате пересказа возникают 2варианта сюжета-«основной», но неполный, и полный, но «избыточный». => Фабула событийная основа» действия., совокупность «связанных» элементов Д. или «краткая схема» Д. Сюжет : действие «во всей полноте», в сочетании «связанных» и «свободных» элементов
Томашевский называет фабулой «совокупность событий в их взаимной внутренней связи», а сюжетом «художественно построенное распределение событий в произведении».
^ Мотив и другие понятия сюжетологии
Все известные нам элементы сюжета могут повторяться (неоднократно появляться в тексте) как в пределах одного произведения, так и в рамках традиции. Отсюда предварительное определение понятия: мотив - любой элемент сюжета или фабулы (ситуация, коллизия, событие), взятый в аспекте повторяемости, т.е. своего устойчивого, утвердившегося значения.
Другой ряд примеров:событие-мотив - убийство, ситуация-мотив - «треугольник, коллизия-мотив - месть.
Существуют мотивы, характерные д/того или иного типа лит-го произведения. Лирические мотивы, например мгновения (в особенности - мгновенное озарение и новое видение мира). Жанровые мотивы в лирике, например элегические: увядание, кратковременность и быстротечность жизни, приближение вечера или осени и т.п.
Эпическим мотивом можно считать поединок, а жанровыми - месть и убийство, а также преступление и наказание как мотивы готических и криминальных романов и повестей. Драматические мотивы - узнавание или разоблачение (выделено еще Аристотелем); жанровые же - вражда между родственниками, вина и возмездие
в трагедии; веселый обман, в частности - подмена или одно вместо другого - в комедии.
«Девятнадцатый век, - пишет М.Б.Храпченко, - принес с собой мощное развитие исторических исследований литературы, породил стремление рассмотреть с исторической точки зрения поэтические средства, виды и роды, охарактеризовать их эволюцию, породил стремление заложить основы исторической поэтики» Храпченко М.Б. Историческая поэтика: основные направления исследований //Историческая поэтика: итоги и перспективы изучения /Ред.-кол. Храпченко М.Б. и др. М., 1986. С. 10.. Общепризнанным родоначальником исторической поэтики считается А.Н.Веселовский, но ему не удалось создать «единую всеобщую поэтику, охватывающую широчайший круг литературных явлений» Там же.. В последние три десятилетия XX в. интерес к разработке проблем исторической поэтики заметно усилился.
М.Б.Храпченко называет ряд предпосылок для построения исторической поэтики как единого целого. Во-первых, это работы исследователей 70 - 80 гг. XX в., которые разрабатывают вопросы исторической поэтики как на материале русской, так и зарубежной литератур: В.Виноградов, Д.Лихачев, Г.Фридлендер, Е.Мелетинский, С.Аверинцев, М.Гаспаров, О.Фрейденберг и др. Во-вторых, завершение десятитомной истории всемирной литературы, содержащей «обобщение процессов исторического развития литератур разных стран и народов. В-третьих, живой интерес к проблемам исторической поэтики со стороны целого коллектива ученых.
Определив особенность исторической поэтики, которая рассматривает «развитие путей и средств художественного претворения действительности и изучает их в более крупных измерениях, обращаясь к литературному творчеству различных народностей и наций, к литературным направлениям и жанрам» Там же. С. 13., М.Б.Храпченко характеризует предмет исторической поэтики: «исследование эволюции способов и средств образного освоения мира, их социально-эстетического функционирования, исследование судеб художественных открытий» Храпченко М.Б. Указ. соч. С. 13..
Исследователь, обозначив содержание и предмет исторической поэтики, намечает направления ее «исследовательского труда»:
- 1. создание всеобщей исторической поэтики;
- 2. изучение поэтики национальных литератур;
- 3. исследование вклада выдающихся художников слова в развитие поэтики национальной и мировой литературы;
- 4. эволюция отдельных видов и средств художественного воплощения, а также судеб отдельных открытий в области поэтики Там же. С. 15..
Эти направления тесно взаимосвязаны друг с другом.
Недостаток литературоведения XIX в. Н.К.Гей видит в подразделении на теоретическое и конкретно-историческое изучение художественных феноменов. Заслуга А.Н.Веселовского как раз в том, что он попытался найти «органическое соединение исторических и теоретических подходов к литературе» Гей Н.К. Историческая поэтика и история литературы //Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. С. 118.. Основоположником исторической поэтики исследуется генезис таких поэтических форм, как эпитет, психологический параллелизм, родовые и жанровые структуры, мотивы и сюжетные формы повествования.
По словам Н.К.Гея, первоначально исследования по исторической поэтике «ограничивались <…> рассмотрением эволюции художественных форм» Там же. С. 121. Наивысшим этапом является изучение «всех элементов поэтики в их целостном системном функционировании внутри произведений (курсив мой. - М.С. )» Там же..
Оперируя основополагающими литературоведческими понятиями форма и содержание, Н.Г.Гей определяет проблематику исторической поэтики как «историческую транскрипцию содержательных форм литературы в их генезисе и живом функционировании, когда данный художественный смысл есть сканирование многих диахронных смыслов текста в плане его генезиса и в плане жизни самого этого текста» Гей Н.К. Указ. соч. С. 123..
Вопреки традиционному представления, согласно которому исторической поэтике надлежит заниматься изменчивыми поэтическими структурами, Гей утверждает, что она «рассматривает <…> соотнесенность устойчивого и подвижного в объекте изучения как гетерогенное начало художественных смыслов внутри художественного целого и в индивидуально-своеобразных, и в родовых своих проявлениях, одновременно» Там же. С. 124.. Поэтому, делает вывод исследователь, необходим комплексный анализ поэтических форм.
Итак, исследователем намечаются три градации литературоведческих подходов: теория литературы, история литературы, критика и историческая поэтика, значимость последней - в пересечении синхронной и диахронной плоскостей осмысления литературы.
Ссылаясь на выделенные М.Б.Храпченко области исследования исторической поэтики, Н.В.Бойко рассматривает описание как одну из категорий исторической поэтики. Именно описание, по словам исследователя, «связано двойной, определяющей и определяемой, связью с идиостилем, с жанром, с литературным направлением» Бойко Н.В. . Описание как проблема исторической поэтики //Вестник Харьковского университета. 1986. № 284. С. 78.. Н.В.Бойко с целью установить «типологические закономерности в стилевом процессе» Там же. анализирует связь описания с «образом автора» на примере творчества Н.В.Гоголя и приходит к заключению: «Описание у него (Гоголя. - М.С. ) становится имплицитной формой субъективизации повествования, т.е. способом выражения «образа автора» в основных его параметрах: экспрессивно-оценочном и конструктивном, определяющем повествовательную организацию произведения» Бойко Н.В. Указ. соч. С. 79..
В.Е.Хализевым обозначается ряд методологических аспектов исторической поэтики, предметную сферу которой составляет «“общий фонд“ творческих принципов и художественных форм в его становлении, трансформации, достраивании и обогащения» Хализев В.Е. Указ. соч. С. 11., иными словами, предмет исторической поэтики - эволюция языков литературного творчества.
Приоритетным исследователь признает «равноправное» рассмотрение как универсальной стадиальности форм и принципов литературного творчества, так и своеобразия культурно-художественной эволюции различных регионов, стран, народов с присущими им «константами» бытия и культуры» Там же. С. 14..
В числе «различных исторических концепций поэтики» Захаров В.Н. Историческая поэтика и ее категории //Проблемы исторической поэтики. Выпуск 2. Художественные и научные категории: Сборник научных трудов. Петрозаводск, 1992. С. 3. В.Н.Захаров называет нормативные поэтики, основанные на «эстетическом догматизме, убеждении в том, что есть образцы искусства, существуют каноны, обязательные для всех» Там же.. Иной характер носит поэтика историческая, честь открытия которой, по словам автора, принадлежит А.Н.Веселовскому. Именно Веселовским историческая поэтика была представлена как оригинальное филологическое направление со своей методологией («индуктивный метод»), со своими принципами изучения поэтики, с новыми категориями - сюжет и жанр. В.Н.Захаров определяет специфику исторической поэтики через принцип историзма, т.е. исторического объяснения поэтических явлений.
Исходя из положения Н.К.Гея: «историческая поэтика опирается на обширный научный опыт сравнительно-исторического литературоведения (В.М.Жирмунский) <…>, историю древнерусской литературы (Д.С.Лихачев), на исследования античной литературы, мифологии, первобытного искусства (О.М.Фрейденберг)» Гей Н.К. Историческая поэтика и история литературы //Историческая поэтика: итоги и перспективы изучения /Под ред. Храпченко М.Б. и др. М., 1986. С. 119., - мы выстроили структуру второй главы следующим образом: в первом параграфе излагаются идеи В.М.Жирмунского; второй параграф посвящен воззрениям О.М.Фрейденберг на историческую поэтику; поэтика древнерусской литературы в ее отношение к исторической поэтике рассмотрены в третьем параграфе; в качестве систематизатора и «создателя» целостной концепции исторической поэтики выступает С.Н.Бройтман (§4).
В котором изучается генезис (происхождение), развитие литературных жанров , литературных произведений , литературных стилей. Историческая поэтика предшествует теоретической поэтике, в обязанности которой входит изучение теории литературы в синхронии . Историческая поэтика изучает теорию литературы в диахронии . История литературы как история эволюционного развития литературных форм - вот в сущности ядро «исторической» поэтики, наиболее ярким и крупным представителем которой по праву считается А.Н.Веселовский . Исходным моментом в работе этого учёного является стремление «собрать материал для методики истории литературы, для индуктивной поэтики, которая устраняла бы её умозрительные построения, для выяснения сущности поэзии - из её истории». С помощью такого индуктивного исследования чисто эмпирическим путём мыслится осуществление грандиозного замысла «исторической» поэтики, которая бы охватила развитие литературных форм всех времен и народов. Здание «исторической» поэтики осталось незавершенным.
Однако у дела А. Н. Веселовского было немало продолжателей, в числе которых стоит назвать прежде всего Ю. Н. Тынянова, М. М. Бахтина, В. Я. Проппа, О. М. Фрейденберг, Е. М. Мелетинского. В советские годы Веселовский был объявлен «буржуазным космополитом», его работы замалчивались, а историческая поэтика подвергалась нападкам. Однако начиная с 70-х годов XX века начинается возрождение интереса к данной дисциплине. Появляется несколько сборников, посвященных исторической поэтике, активно обсуждается её проблематика. С конца 90-х годов в РГГУ читается курс С. Н. Бройтмана «Историческая поэтика», построенный главным образом на понимании истории художественного образа как ядра исторической поэтики.
Энциклопедичный YouTube
-
1 / 2
Просмотров:
Историческая поэтика – детище отечественной филологической науки, хотя у истоков этой дисциплины стояли не только русские, но и европейские учёные XIX в., занимавшиеся сравнительно-типологическим изучением явлений мировой литературы и на этой основе делавшие выводы об эволюции отдельных форм словесного творчества и целых художественных систем. Её зарождение связано с научной деятельностью академика А.Н. Веселовского (1838–1906), создателя «новой», «индуктивной поэтики» , который впервые определил предмет, разработал методологию изучения и сформулировал задачи исторической поэтики. Актуализируя принцип историзма в научном познании, этот выдающийся учёный принципиально обновлял теорию литературы, знания о генезисе поэтических жанров и родов, сюжетов и мотивов, о закономерностях развития мировой литературы. Нормативной теории и истории литературы он противопоставлял идею «генетической» поэтики, основанную на понимании роли собственно эстетических и внеэстетических факторов литературного развития. Целью этой научной дисциплины А.Н. Веселовский считал изучение «эволюции поэтического сознания и его форм» , подчеркивая при этом, что «метод новой поэтики будет сравнительным» .
Рассматривая историю литературы как «историю общественной мысли в образно-поэтическом переживании и выражающих его формах» , учёный в 1870 г. говорил во вступительной лекции к курсу всеобщей литературы, который он читал в Петербургском университете: «История литературы, в широком смысле этого слова, – это история общественной мысли, насколько она выразилась в движении философском, религиозном и поэтическом и закреплена словом. Если… в истории литературы следует обратить особенное внимание на поэзию, то сравнительный метод откроет ей в этой более тесной сфере совершенно новую задачу – проследить, каким образом новое содержание жизни, этот элемент свободы, приливающий с каждым новым поколением, проникает старые образы, эти формы необходимости, в которые неизбежно отливалось всякое предыдущее развитие» .
А.Н. Веселовский «индуктивную поэтику» рассматривал в рамках «методики истории литературы», создаваемой с целью «выяснения сущности поэзии – из её истории» , причём рассматривал в парадигме содержательности форм, взаимосвязи типологического и исторического. Предостерегая от «умозрительных построений» в этой области, он обращал внимание на важность изучения природы эстетической деятельности и специфики восприятия: «Задача исторической поэтики… – определить роль и границы предания в процессе личного творчества» . При этом в контексте преодоления эмпиризма в научном познании им формулировался вопрос, суть которого заключалась в необходимости «отвлечь законы поэтического творчества и отвлечь критерий для оценки его явлений из исторической эволюции поэзии» .
«Отвлечение», «снятие» данных эволюции поэтических систем, исторически складывавшейся общности, целостности на разных уровнях эстетической реальности в целях определения закономерностей развития художественного сознания, форм его выражения обусловливает тесную связь проблем истории и теории литературы при изучении предмета «индуктивной поэтики». В этом сходятся все специалисты по исторической поэтике. В понимании самого А.Н. Веселовского, как и его современника, немецкого литературоведа В. Шерера, «историческая поэтика означала попросту теорию литературы, основанную на принципах историзма» . Развивая идеи А.Н. Веселовского, современные учёные придают синтезу теории и истории литературы – как сущностной стороне исторической поэтики – особое значение. И.К. Горский утверждает, что «поэтика в истинном значении этого термина есть прикладная литературная теория» . М.Б. Храпченко рассматривал историческую поэтику как «звено связи между общей теоретической поэтикой и историей литературы» . А.В. Михайлов видит задачу исторической поэтики в «сближении, опосредовании и совмещении теоретического и исторического знания о литературе» . С.Н. Бройтман акцентировал внимание на том, что «связанная с историей литературы, историческая поэтика тем не менее является теоретической дисциплиной, имеющей свой предмет изучения» .
Но предмет этой научной дисциплины понимается по-разному, что объясняется синтетическим, комплексным её характером, а также тем, что после А.Н. Веселовского, по ряду причин не завершившего работу по созданию единой всеобщей поэтики, это направление научного знания разрабатывалось не столь интенсивно, как остальные разделы поэтики (теоретическая, систематическая и частная, описательная поэтика). Приведём наиболее значимые определения предмета исторической поэтики, дающие представление о современном состоянии её изучения.
М.Б. Храпченко писал, что «содержание, предмет исторической поэтики целесообразно охарактеризовать как исследование эволюции способов и средств образного освоения мира, их социально-эстетического функционирования, исследование судеб художественных открытий» . «Построение исторической поэтики развёртывается… – считает А.В. Михайлов, – во взаимопроникновении литературной теории и истории литературы – и притом непременно так, чтобы этот процесс взаимопроникновения и слияния теории и истории литературы выходил в широту истории культуры и в ней, в её развитии, в её многообразных материалах черпал свою внутреннюю логику» .
В.Е. Хализев отмечает, что «историю поэтик в составе литературного процесса призвана освоить историческая поэтика как научная дисциплина» . Предмет исторической поэтики, по мнению С.Н. Бройтмана, учитывающего опыт разграничения архитектонических форм М.М. Бахтина и его концепцию «эстетического объекта», «произведения в целом» , включает в себя изучение «генезиса и эволюции художественных форм… и содержание эстетической деятельности». Поскольку «формы видения и осмысления определённых сторон мира накопляются в жанрах (литературных и речевых) на протяжении веков их жизни», а «главной проблемой исторической поэтики» является жанр