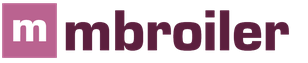Быт и традиции императорской российской гвардии. Быт и традиции императорской российской гвардии Офицер гвардии
«Бессмертные» персидских царей, преторианцы римских цезарей, варяжские и славянские наемники византийских императоров, драбанты шотландских королей, «черные валлоны» бургундских герцогов, шотландская гвардия французских Валуа, швейцарская гвардия французских Бурбонов… Личная гвардия являлась неотъемлемым атрибутом любого уважавшего себя самодержца. Едва вступив на престол, монарх начинал реформирование доставшейся от предшественников гвардии, но еще большие реформы ожидали гвардию в случае смены правящей династии. Не являлась исключением и династия русских царей Романовых. Традиционно создание гвардии вообще и гвардейской пехоты в частности приписывается Петру I, однако на самом деле этот процесс начался еще при его предшественниках. Вступив на престол, первый царь из династии Романовых Михаил Федорович провел основательную чистку личного состава доставшейся от предшественников гвардии (стремянного стрелецкого полка) и задумался о создании новой собственной гвардии. Процесс реформирования гвардейских полков длился все 300 с небольшим лет правления династии. Вот некоторые факты из истории гвардейской пехоты царей Романовых.
1. Первыми гвардейскими пехотными частями Романовых стали московские выборные солдатские гвардейские полки:
1-й Московский выборный солдатский полк был сформирован 25 июня 1642 года (в царствование Михаила Федоровича) и более известен как пехотный Лефорта полк (по имени Франца Лефорта, назначенного его командиром в 1692 году). 14 января 1785 года он был назван Московским гренадерским полком, а 8 сентября 1791 года – расформирован путем присоединения к Екатеринославскому гренадерскому полку.
2-й Московский выборный солдатский полк был также сформирован в 1642 году по указу того же Михаила Федоровича в составе 52 рот по 100 человек. Более известен как Бутырский полк (по месту дислокации – Бутырской слободе в Москве) и полк Гордона (по имени одного из командиров – Патрика Гордона). С 9 марта 1914 года – 13-й лейб-гренадерский Эриванский Царя Михаила Федоровича полк. Расформирован в начале 1918 года.
3-й Московский выборный солдатский полк был сформирован в 1692 году.
2. Изначально выборные солдатские полки задумывались как кадрированные части: в мирное время они состояли из «начальных» людей от десятника до полковника, а в военное – пополнялись рядовыми стрельцами и развертывались в несколько полков каждый. Позднее от принципа кадрированности отказались, но несколько необычное деление полков на полки сохранилось. Так, 1-й Московский выборный солдатский полк состоял из 5 полков, 2-й Московский выборный солдатский полк – из 6 полков, а 3-й Московский выборный солдатский полк – из 2 полков.
 1698–1702 годы. Слева направо: фузилер Семеновского полка в зимнем кафтане, обер-офицер Преображенского
1698–1702 годы. Слева направо: фузилер Семеновского полка в зимнем кафтане, обер-офицер Преображенского
полка, фузилер Бутырского полка в летнем кафтане, гренадер Преображенского полка
Источник: О. Леонов, И. Ульянов «Регулярная пехота 1698–1801»
 Патрик Гордон – военный учитель Петра І. Длительное время командовал 2-м Московским
Патрик Гордон – военный учитель Петра І. Длительное время командовал 2-м Московским
выборным солдатским полком
Источник: http://catholichurch.ru/index.php/gallery/member/4-drogon/
3. Все три московских выборных полка приняли участие в неудачном для российской армии Нарвском сражении 1700 года. По итогам этого сражения Преображенский и Семеновский гвардейские полки (в то время входившие в 3-й Московский выборный солдатский полк) получили статус лейб-гвардейских. В литературе бытует мнение о том, что Преображенский полк является старейшим полком гвардии. Это заявление довольно спорно в свете того, что с момента создания и до 1706 года Преображенский и Семеновский гвардейские полки являлись подразделениями одной воинской части и имели общего полкового командира (сначала им был генерал-майор А. М. Головин, а с 1700 года – генерал-майор И. И. Чамберс). Официальная история Российской Императорской армии устанавливала старшинство Преображенского и Семеновского полков с 1683 года. Причиной рождения версии о «первородстве» Преображенского полка выступили некоторые субъективные факты из истории Семеновского полка. Придворные историки осуждали этот полк за его «восстание» (16 октября 1820 года головная рота Семеновского полка, недовольная запретом нового полкового командира Шварца на занятие солдат ремеслами, подала просьбу сменить полкового командира. Полк был разоружен и в полном составе отправлен в Петропавловскую крепость), а советские – недолюбливали за его участии в подавлении Московского восстания в 1905 году.
 Лейб-гвардии Семеновский полк
Лейб-гвардии Семеновский полк
Источник: http://russiahistory.ru/lejb-gvardii-semenovskij-polk/
4. Лейб-гвардейские полки задумывались Петром I как своеобразный кадровый резерв. Первоначально все гвардейцы имели преимущество в два чина перед военнослужащими армейских частей. Позднее это преимущество сохранялось только для офицеров, а затем, по мере роста численности гвардии, она была разделена на «старую» гвардию (с преимуществом в два чина) и «молодую» (с преимуществом в один чин). К началу же ХХ века за всеми гвардейскими офицерами осталось преимущество в один чин. В гвардейской иерархии начала ХХ века отсутствовало звание подполковника, поэтому гвардейский капитан производился сразу в полковники.
 Полковник, командир батальона Лейб-гвардии Семеновского полка в парадной форме
Полковник, командир батальона Лейб-гвардии Семеновского полка в парадной форме
Источник: http://maxpark.com/community/129/content/1797108
5. К началу ХХ века русская гвардейская пехота достигла максимального развития и включала в свой состав 12 пехотных и 4 стрелковых полка, а также одну отдельную роту. Двенадцать из шестнадцати полков гвардейской пехоты (Преображенский, Семеновский, Измайловский, Егерский, Московский, Финляндский, Литовский, Волынский, 1-й Стрелковый Его Величества, 2-й Стрелковый Царскосельский, 3-й Стрелковый Его Величества, 4-й Стрелковый Императорской Фамилии) были изначально сформированы как гвардейские, а четыре (Гренадерский, Павловский, Кексгольмский Императора Австрийского и Петроградский Короля Фридриха Вильгельма III) – переведены в гвардию за особые военные заслуги. Организационно к 1914 году гвардейские пехотные части были сведены в три гвардейские пехотные дивизии и гвардейскую стрелковую бригаду (1-я, 2-я дивизии и стрелковая бригада составляли гвардейский пехотный корпус, а 3-я дивизия входила в состав 22-го армейского корпуса). Гвардейская пехота приняла активное участие в Первой мировой войне и была задействована в Люблинской (1914 год), Варшавско-Ивангородской (1914 год), Ченстохово-Краковской (1914 год) операциях, позиционных боях под Ломжей (1915 год), боевых действиях в районе города Холм (1915 год), Виленской (1915 год), Ковельской (1916 год), Владимир-Волынской (1916 год) операциях, позиционных боях на реке Стоход (1916 год), Галицийской операции (1917 год). Гвардейские части использовались в качестве ударной пехоты, что вело к большим потерям в личном составе. Потери гвардейской пехоты только за первый год войны оцениваются в 30% офицеров и 80% нижних чинов.
6. В начале ХХ века комплектование гвардейской пехоты осуществлялось, как правило, новобранцами из великорусских губерний. Необходимым условием было наличие справки о благонадежности, которая выдавалась полицией по месту жительства новобранца. Распределение рекрутов по полкам велось в соответствии с их внешним видом. Так, в Преображенский полк набирали высоких блондинов, причем в 3-ю и 5-ю роты – с бородами; в Семеновский – высоких шатенов; в Измайловский и Гренадерский – брюнетов (в роту Его Величества – бородатых); в Московский – брюнетов (в 9-ю роту), самых высоких – в роту Его Величества; в Литовский – безбородых высоких блондинов; в Кексгольмский – безбородых высоких шатенов; в Санкт-Петербургский – брюнетов; в Егерский, Финляндский и Волынский – людей «легкого телосложения» любого цвета волос. 1-й Стрелковый полк комплектовался блондинами, 2-й – брюнетами, 4-й – «коротконосыми». Программа военной подготовки гвардейских частей не имела существенных отличий от армейской и включала в себя следующие дисциплины: стрелковая подготовка (курс обучения включал в себя начальное обучение, обучение наблюдению за полем и определению расстояний до цели, учебную стрельбу, стрелковую подготовку начальников и тактические занятия с боевой стрельбой); инженерная подготовка (курс включал самоокапывание, построение простейших инженерных сооружений и основы маскировки); штыковой бой. В гвардейских частях раньше, чем в армейских, была введена гимнастическая (физическая) подготовка. Система гимнастических упражнений включала в себя: вольные движения и упражнения с ружьями и палками; упражнения на снарядах; ходьба, бег и втягивание в марши; полевая гимнастика; групповые упражнения, игры (в 1908 году в перечень рекомендованных игр был включен футбол); метание копий и тяжестей.
7. В Российской Императорской армии, за исключением периода царствования Павла I, старались не изменять названия полков. В истории российской гвардейской пехоты лишь три полка меняли свое название. Лейб-гвардии Санкт-Петербургский полк 24 августа 1914 года был переименован в Лейб-гвардии Петроградский полк (в связи с переименованием Санкт-Петербурга в Петроград). 12 октября 1817 года Литовский Лейб-гвардии полк был переименован в Московский, а на основе его 3-го батальона в Варшаве сформировали новый Литовский Лейб-гвардии полк. В 1855 году Лейб-гвардии Егерский полк был переименован в Лейб-гвардии Гатчинский, но 17 августа 1870 года, в день полкового праздника, полку было возвращено его прежнее название. По легенде старое название полку было возвращено благодаря остроумию пожилого заслуженного генерала (некоторые любители истории приписывает остроту генерал-лейтенанту Ивану Гавриловичу Чекмареву, что кажется сомнительным, и, вероятнее всего, история все же имеет анекдотический характер), ответившего на приветствие императора: «Здравствуй, старый егерь» – «Я не старый егерь, а молодой гатчинец!»
Всякая из существующих современных армий
имеет в своих рядах некоторое количество частей,
проникнутых особым духом самоуважения,
основанного на выдающемся историческом прошлом...
Эти части... должны служить гарантией преемственности тех традиций,
которые составляют фундамент всякой армии...
Эти отборные войска должны...
служить как бы практическою школою,
рассадником для кадров прочих частей армии.
А. Геруа. «Полчища», 1923 г.
Царь Пётр Алексеевич, создатель российской гвардии.
Хромолитография на металле. 1909 г
На всем протяжении тысячелетней истории Российского государства нашим предкам постоянно приходилось с оружием в руках отражать многочисленные агрессии, отстаивать независимость и целостность государства. Вот почему ратная служба всегда была наиболее почетной и уважаемой на Руси. В ряду вооруженных защитников Отечества воины-гвардейцы всегда заслуженно занимали особое место.

Знамя ротное лейб-гвардии Преображенского полка. 1700 г.
В России гвардия (лейб-гвардия) была создана Петром I из потешных войск. До сих пор у историков нет единства по вопросу о дате создания Российской гвардии. Так, в дневнике Петра I при объяснении неудачи под Нарвой в 1700 г. указано, что «лишь два полка гвардии были на двух атаках у Азова», но в перечне войск, выступивших под Азов в 1696 г. Преображенский и Семеновский полки гвардейскими не названы. Известный историк П.О. Бобровский за день рождения гвардии принимал 30 мая (10 июня) 1700 г. - день рождения ее «государя-учредителя» . В одном из писем, датированном 11 (22) июня того же года , Петр называет князя Ю.Ю. Трубецкого «гвардии капитаном». И, наконец, в «Журнале Петра Великого» под датой 22 августа (2 сентября) 1700 г. впервые, как принято считать, полки официально названы гвардейскими . Этот день - 2 сентября (22 августа ст. ст.) установлен памятным днем Российской гвардии .
Комплектованием гвардейских полков на начальном периоде их становления занимался лично царь Петр I. «Каждый солдат, желавший поступить в полк гвардейский, зачислялся не иначе как с разрешения самого Государя, который клал собственноручные резолюции на их прошения» . Этот «отборный» принцип комплектования гвардейских частей нижними чинами, а тем более офицерским составом, сохранился впоследствии, хотя критерий уровня образованности и военного профессионализма преемниками Петра был в значительной степени потеснен критериями политического интереса, личной преданности, богатства, родовитости и т.п.
В Петровскую эпоху гвардейцы решали триединую задачу. Во-первых, они являли собой политическую опору царской власти при проведении не всегда популярных в народе реформ. Недаром после принятия в 1721 г. императорского титула гвардейские части стали именоваться «Российской императорской гвардией». Во-вторых, гвардейские полки не только исполняли функции военной школы, готовившей командные кадры для армии, но были и полигоном, где испытывались всякие новшества по реформированию армии. Наконец, в-третьих, гвардия представляла собой и боевую единицу, иногда последний и решающий довод на поле брани.
Русская гвардия получила боевое крещение в Северной войне 1700-1721 гг. В сражении под Нарвой в ноябре 1700 г. два гвардейских полка в течение трех часов сдерживали атаки шведов. Их стойкость спасла русскую армию от полного разгрома. За этот подвиг офицеры Преображенского и Семеновского полков были удостоены нагрудного знака отличия с надписью: «1700 г. ноября 19». Гвардейцы участвовали и в других сражениях со шведами: брали Нотебург (1702 г.), одержали победу под Нарвой (1704 г.), отличились в сражениях у Лесной и Полтавы (1709 г.) и др.
Длительное время гвардейцы не имели в чинах никаких преимуществ с остальными войсками. Однако после утверждения в начале 1722 г. табели о рангах офицеры гвардейских полков получили старшинство двух чинов против армейских.
Для подготовки офицеров в армейские кавалерийские полки в 1721 г. был сформирован Кроншлотский драгунский полк, которому повелено было состоять из одних дворян и называться лейб-региментом (с 1730 г. - Конная гвардия, с 1801 г. - лейб-гвардии Конный полк). В сентябре 1730 г. был сформирован еще один гвардейский полк - лейб-гвардии Измайловский .
В Русско-турецкой войне 1735-1739 гг. особый гвардейский отряд в составе 3 батальонов пехоты от лейб-гвардии Преображенского, Семеновского и Измайловского полков, 2 эскадронов конной гвардии и 6 орудий участвовал в штурме Очакова, взятии Хотина и в Ставучанском сражении 1739 г.
Императрица Елизавета Петровна имела звание полковника всех гвардейских полков. Гренадерскую роту Преображенского палка, с помощью которой она вступила на престол, в вознаграждение за оказанные услуги императрица отделила от полка и наименовала ее лейб-компанией.
В царствование Екатерины II сводные гвардейские батальоны принимали участие в Русско-шведской войне 1788-1790 гг. и в двух русско-турецких войнах.

Кавалергарды в царствование императора Павла I.
С акварели А. Бальдингера.
В годы царствования Павла I численный состав гвардии значительно увеличен. Образованы были полки: лейб-гвардии Гусарский (1796), лейб-гвардии Казачий (1798) и Кавалергардский (1799) а также лейб-гвардии Артиллерийский и Егерский батальоны.
При императоре Александре I сформированы лейб-гвардии Егерский (1806), Финляндский (1811) и Литовский (1811) полки.
В 1805 г. образована лейб-гвардии конная артиллерия, в 1811 - лейб-гвардии артиллерийская бригада, в 1812 - лейб-гвардии Саперный батальон.
В годы царствования Александра I гвардейские части участвовали во всех войнах, которые вела Россия на европейском театре военных действий. В многочисленных сражениях гвардейцы покрыли себя неувядаемой славой, давая пример истинного служения Отчизне.

Кавалергарды в битве при Аустерлице сражаются с
кавалерией Наполеона.
Кровью вписан в военную историю Отечества подвиг самопожертвования кавалергардов в Аустерлицком сражении 20 ноября (2 декабря) 1805 г., когда они пошли на верную смерть, спасая истекавшие кровью Преображенский и Семеновский полки от обрушившихся на них значительно превосходящих сил французской кавалерии. Всего в той страшной рубке Кавалергардский полк потерял 13 офицеров и 226 нижних чинов. Не менее отважно бились с врагом в этом сражении кавалеристы лейб-гвардии Конного и Гусарского полков. Отличились и гвардейские казаки полковника П.А. Чернозубова, атаковавшие французов в авангарде второй колонны союзных войск.
Чудеса стойкости и отваги продемонстрировали гвардейцы и в последующих сражениях с французами. У Пултуска 14 (26) декабря 1806 г. лейб-кирасиры полка Его Величества (причисленного в 1813 г. к «Молодой» гвардии) участвовали в смелом рейде русской конницы на правый фланг противника, который решил в нашу пользу исход сражения.
В сражении при Фридланде 2(14) июня 1807 г. отличились Гусарский и Казачий лейб-гвардии полки, рубившиеся с драгунами из дивизии генерала Груши, а также лейб-гвардии Конный полк, разметавший смелой атакой голландских кирасир. Гренадерский Павловский полк, причисленный позднее к «Молодой» гвардии, за исключительную доблесть и стойкость в сражении был пожалован особой наградой: «ему было повелено состоящие при нем шапки оставить в том виде, в каком он сошел с поля сражения» (т.е. простреленными и изрубленными). Во время сражения полк одиннадцать раз ходил в штыки. Шеф полка, генерал-майор Н.Н. Мазовский, раненый в руку и ногу, и, не имея возможности сидеть в седле, велел двум гренадерам нести себя перед полком в последнюю атаку.
В Отечественной войне 1812 г. и в Заграничном походе русской армии 1813-1814 гг. гвардейцы подтвердили славу русского оружия. Полоцк и Смоленск, Бородино и Красный, Кульм и Лейпциг, Кацбах и Краон, Ла-Ротьер и Фер-Шампенуаз - вот далеко не полный перечень мест сражений, где отличилась российская гвардия. И как итог - торжественный марш в поверженной французской столице: впереди шла прусская гвардейская кавалерия, за ней русская легкая гвардейская кавалерийская дивизия, охранявшая монархов, затем гвардейская пехота союзников. Завершала торжественное шествие 1-я кирасирская дивизия. Российский император в кавалергардском вицмундире с Андреевской лентой через плечо ехал на сером коне в окружении своих гвардейцев.
За боевые подвиги - почетные награды. Все боевые награды, пожалованные за Отечественную войну, имели одну общую надпись: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России в 1812 году». Полки Петровской бригады (Преображенский и Семеновский) за отвагу и стойкость в сражении при Кульме были удостоены Георгиевских знамен. За героизм в этом же сражении Измайловский и Егерский гвардейские полки награждены георгиевскими трубами. Такую же награду за Лейпциг получил лейб-гвардии Литовский полк. За спасение императора Александра от плена во время Лейпцигского сражения серебряных труб удостоены лейб-гвардии Казачий полк и Собственный Его Величества Конвой. Георгиевскими штандартами награждены полки гвардейской кирасирской бригады - Кавалергардский и Конногвардейский. Лейб-гвардии Драгунский полк в 1813 г. был награжден Георгиевским штандартом, а за сражение при Фер-Шампенуазе в 1814 г. - Георгиевскими трубами. Серебряных труб удостоены 1-я и 2-я Гвардейские артиллерийские бригады, а также все гвардейские конные батареи.
В 1813 г. в России помимо Старой гвардии учреждена была Молодая гвардия. Это название первоначально было присвоена двум гренадерским и одному кирасирскому полкам за боевые отличия в Отечественной войне 1812 г. В 1829 г. к составу Молодой гвардии причислен лейб-гвардии Финский стрелковый батальон. Ему, как и полкам лейб-гвардии Гренадерскому и Павловскому, дарованы в 1831 г. за отличия в войне с Польшей права Старой гвардии.

Штаб-офицер и бомбардир 6 батареи 3-й Гвардейской и
Гренадерской артиллерийской бригады.
В 1814 г., в ознаменование заслуг квартирмейстерской части и в память о ее «в высшей степени усердной и полезной для войск деятельности в эпоху наполеоновских войн», в составе Свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части было создано особое учреждение под названием «гвардейский Генеральный штаб» с правами «Старой» гвардии. Он был составлен из отличнейших по своим заслугам штаб- и обер-офицеров квартирмейстерской части (поначалу 24 офицера Свиты), которым присваивалось особое отличие на мундирах. Эти офицеры не предназначались для службы исключительно в гвардии, а распределялись наравне с другими чинами Свиты по всем войскам и командам, выполнявшим топографические съемки. То было личное почетное преимущество, предоставленное особо отличившимся офицерам квартирмейстерской части, где бы они ни служили.
В 1830 г. сформирована лейб-гвардия Донская конно-артиллерийская рота. В 1833 году гвардия была разделена на два корпуса - Гвардейский пехотный (из пехоты и пешей артиллерии) и Гвардейский Резервный кавалерийский (из кавалерии и конной артиллерии).
В 1856 г. во всех гвардейских пехотных полках сформированы стрелковые роты, по одной на батальон и тогда же сформированы вновь гвардейские 1-й и 2-й стрелковые батальоны. В том же 1856 гг. к составу гвардии (на правах Молодой гвардии) причислен лейб-гвардии Стрелковый Императорской Фамилии батальон.
В последующие годы численность частей, входивших в состав Молодой гвардии, продолжала увеличиваться. В военное время гвардейские части принимали участие во всех войнах, которые вела Россия. Своей стойкостью и храбростью гвардейцы заслужили славу не только в своем отечестве, но и восторженные отзывы союзников,
В мирное время гвардия несла внутреннюю службу, участвовала в охране особ царской семьи, караулах, парадах, в походах внутри России, в лагерях и выполняла разные поручения,
Офицерский состав гвардии состоял главным образом из представителей высшего дворянства. Солдаты в гвардию отбирались из физически крепких людей, благонадежных в политическом отношении.
Внешний вид гвардейских частей отличался молодцеватостью солдат, их выправкой, умением офицеров вести себя с достоинством, обмундированием.

Дело при селении Телише в 1877 году.
Художник В.В. Мазуровский.
Во второй половине XIX в. русская Императорская гвардия участвовала почти во всех военных предприятиях царской России. Особенно отличились части гвардии в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в боях за Горный Дубняк и Палищ, Дальний Дубняк и Шиндаринскую позицию, при Ташкисене и Филиппополе.
В тоже время наряду с участием в боевых действиях, гвардия продолжала использоваться и как школа для подготовки военных кадров в армейские части. Откомандирование обученных солдат и офицеров из гвардии продолжалось вплоть до Первой мировой войны.

Лейб-гвардии Сапёрный батальон. 1853 г.
Художник А. И. Гебенс.
К началу XX века 23,6% командиров полков и 28,8% командиров дивизий были переведены в армию из гвардии. Из Семеновского полка, считавшегося образцовым, сделали практическую школу для будущих армейских офицеров. Школой унтер-офицеров для саперных частей служил лейб-гвардии Саперный батальон. В артиллерии таковым являлся лейб-гвардии Артиллерийский батальон,
Начало XX века ознаменовалось участием России в подавлении Боксерского восстания в Китае. В 1900-1901 гг. в составе экспедиционного корпуса в Китайском походе принимал участие лейб-гвардии Стрелковый артиллерийский дивизион, который участвовал в операциях русских войск в Маньчжурии и северном Китае.
В Русско-японской войне 1904-1905 гг. принимал участие гвардейский Флотский экипаж. Многие офицеры гвардии участвовали в войне добровольцами, укомплектовывая части и соединения русских войск на Дальневосточном театре военных действий командным составом.
После войны с Японией назрела настоятельная необходимость проведения военных преобразований в России. Коснулись они и гвардии. В первую очередь это было связано с увеличением численного состав гвардейских частей.
Развертывание гвардии осуществлялось за счет формирования новых частей или же преобразования за боевые отличия армейских частей в гвардейские. Если в начале XX века гвардия состояла из 12 пехотных, 4 стрелковых, 13 кавалерийских полков, трех артиллерийских бригад, Саперного батальона и Флотского экипажа, то Первую мировую войну гвардия встретила в составе 13 пехотных, 4 стрелковых и 14 кавалерийских полков. Она имела также в составе четыре Артиллерийских бригады. Саперный батальон, Флотский экипаж и другие части. Во Флоте кроме гвардейского Флотского экипажа к гвардии были отнесены также крейсер «Олег», два эсминца и императорская яхта. Всего к 1914 г. в составе гвардии находилось около 40 частей и свыше 90 тыс. человек. К гвардейским относились, кроме того, Пажеский корпус и постоянный состав Николаевского кавалерийского училища (Офицерской кавалерийской школы). В мирное время гвардия подчинялась главнокомандующему войсками гвардии и Петербургского военного округа.
Первая мировая война явилась серьезным испытанием для русской гвардии. Гвардейские части успешно действовали в Галицийской битве, Варшавско-Ивангорадской и Лодзинской операциям. Часть гвардии (3-я гвардейская пехотная, 1-я и 2-я гвардейские кавалерийские дивизии) участвовали в Восточно-Прусской операции 1914 г. К сожалению, действие гвардейских частей здесь были менее успешны, чем на Юго-Западном фронте, лейб-гвардии Кексгольмский полк и 3-я батарея лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригады разделили трагическую участь двух армейских корпусов 2-й армии в районе Мазурских озер.
Летом 1916 г. в составе особой армии гвардия участвовала в наступлении Юго-Западного Фронта. В боях на реке Стоход она вела кровопролитные бои с противником. Обескровленные, понесшие тяжелые потери, гвардейские части были выведены в резерв Ставки, где и находилась до конца войны.
В связи с серьезнейшими потерями в кадровом составе, для пополнения гвардии стали призываться представители крестьянства и рабочего класса. Это серьезно повлияло на политические настроения в гвардейской среде. В результате, после победы Февральской революции 1917 года и отречения царя от престола гвардия даже не сделала попытки вмешаться в ход событий, корниловский мятеж также оставил гвардию равнодушной. В феврале 1917 г. солдаты почти всех запасных пехотных частей гвардии Петроградского гарнизона перешли на сторону восставших, чем во многом способствовали победе революции.
Временное правительство сохранило гвардию, упразднив приставку «лейб» и наименование «Императорская». При подготовке Октябрьского восстания на гарнизонном совещании в Смольном 18(31) октября представители почти всех полковых комитетов гвардейских резервных полков (за исключением Измайловского и Семеновского) высказались за вооруженное выступление. Они же принимали самое деятельное участие в ходе самого восстания. Так, павловцы и гвардейские гренадеры участвовали в штурме Зимнего дворца, солдаты-запасники Финляндского полка устанавливали советскую власть на Васильевском острове и т.д.
Формальное исчезновение гвардии было связано с подписанием 3 марта 1918 г. советским правительством Брест-Литовского мирного договора. Однако уже с конца января происходила демобилизация частей Петроградского гарнизона. В то время было признано необходимым как можно скорее избавиться от прежних воинских формирований, в том числе и гвардейских. Ликвидация гвардейских полков завершилась к 1 апреля 1918 г.
Советская гвардия родилась в боях под Ельней в ходе Смоленского сражения, в самый сложный период Великой Отечественной войны. По решению Ставки ВГК за массовый героизм, мужество личного состава, высокое воинское мастерство 18 сентября 1941 г. приказом Народного комиссара обороны № 308 были преобразованы в гвардейские четыре стрелковые дивизии: 100-я (командир генерал-майор И.Н. Руссиянов) в 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 127-я (командир полковник А.З. Акименко) во 2-ю, 153-я (командир полковник Н.А. Гаген) в 3-ю и 161-я (командир полковник П.Ф. Москвитин) в 4-ю гвардейскую стрелковые дивизии. Так было положено начало советской гвардии, унаследовавшей лучшие традиции русской гвардии времен Петра Великого, А.В. Суворова, М.И. Кутузова.
Гвардейские формирования принимали активное участие во всех решающих сражениях Великой Отечественной войны и внесли весомый вклад в победу. Если в 1941 г. в составе советской гвардии имелись девять стрелковых дивизий, три кавалерийских корпуса, танковая бригада, ряд частей реактивной артиллерии и шесть авиационных полков, то в 1942 г. в ее ряды влились различные формирования Военно-Морского Флота, противовоздушной обороны страны, многих видов артиллерии, а также стрелковые, танковые и механизированные корпуса, общевойсковые армии, 10 воздушно-десантных гвардейских дивизий, а с 1943 г. - танковые армии, авиационные дивизии и корпуса.
В результате, к концу Великой Отечественной войны, советская гвардия представляла собой несокрушимую силу. Она насчитывала 11 общевойсковых и 6 танковых армий, одну конно-механизированную группу, 40 стрелковых, 7 кавалерийских, 12 танковых, 9 механизированных и 14 авиационных корпусов, 117 стрелковых, 9 воздушно-десантных, 17 кавалерийских, 6 артиллерийских, 53 авиационные и 6 зенитно-артиллерийских дивизий, 7 дивизий реактивной артиллерии; 13 мотострелковых, 3 воздушно-десантные, 66 танковых, 28 механизированных, 3 самоходной артиллерии, 64 артиллерийские, 1 минометную, 11 истребительно-противотанковых, 40 бригад реактивной артиллерии, 6 инженерных и 1 железнодорожную бригады. Гвардейскими стали 1 укрепленный район, 18 боевых надводных кораблей, 16 подводных лодок, ряд других частей и подразделений различных родов войск, а всего свыше четырех тысяч воинских формирований.
Признанием их воинской доблести служило введение гвардейского Знамени (Флага), а для военнослужащих - гвардейских званий и учреждение нагрудного знака «Гвардия». Знаки гвардейской доблести были учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 мая 1942 года. Таким образом, военно-политическое руководство страны еще раз подчеркнуло, что придает гвардейским формированиям особо важное значение в решении боевых задач.
Нагрудный знак «Гвардия», разработанный художником С.И. Дмитриевым, представляет собой овал, обрамленный лавровым венком, верхняя часть которого покрыта развернутым влево от древка Красным знаменем. На знамени сделана надпись золотистыми буквами: «Гвардия». В середине венка - на белом поле красная пятиконечная звезда. Знамя и звезда имеют золотистый ободок. Древко знамени перевито лентой: кисти в верхней части древка свисают на правую часть венка. В нижней части венка имеется щиток с надписью выпуклыми буквами: «СССР». Изображение гвардейского знака помещалось также на гвардейские знамена, вручаемые гвардейским армиям и корпусам. Разница была лишь в том, что на знамени гвардейской армии знак изображался в венке из дубовых ветвей, а на знамени гвардейского корпуса - без венка.
Вручение Знамени (Флага) и нагрудного знака обычно осуществлялось в торжественной обстановке, что имело большое воспитательное значение. Почетное звание обязывало каждого воина стать мастером своего дела. Все это способствовало росту авторитета советской гвардии.
В послевоенные годы советская гвардия продолжила славные традиции предшествующих поколений гвардейцев. И хотя в мирное время преобразование формирований в гвардейские не производилось, в целях сохранения боевых традиций гвардейские звания частей, кораблей, соединений и объединений при переформировании передавались новым воинским частям и соединениям при прямой преемственности по личному составу. Так, танковая Кантемировская дивизия была создана на базе прославленного 4-го гвардейского Кантемировского корпуса. Ей было сохранено почетное наименование и передано корпусное гвардейское знамя. То же самое произошло с 5-й гвардейской механизированной дивизией, военнослужащие которой впоследствии достойно выполняли свой воинский долг в Афганистане. Подобные переформирования произошли в Военно-воздушных силах, десантных войсках и в Военно-Морском Флоте. Вновь формируемым частям и соединениям Ракетных войск стратегического назначения, зенитным ракетным частям и соединениям Войск противовоздушной обороны страны присваивались звания артиллерийских и минометных формирований, отличившихся в годы Великой Отечественной войны.
Гвардия Вооруженных Сил Российской Федерации явилась преемником и продолжателем боевых традиций своих предшественников. Гвардейская мотострелковая Таманская и гвардейская танковая Кантемировская дивизии; гвардейские соединения Воздушно-десантных войск... Эти наименования по-прежнему будят память, вдохновляют и обязывают.
Гвардейцы конца двадцатого столетия верны традициям гвардии, выработанным и закрепленным их предшественниками. Разве забудем мы когда-либо о подвиге современников, когда 1 марта 2000 г. в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 6 парашютно-десантная рота 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами террористов. Десантники не дрогнули, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг, ценой своей жизни преградили путь врагу, проявив мужество и героизм. Этот подвиг золотой строкой вписан в новейшую историю Вооруженных Сил России, в многовековую летопись ее гвардии. Он вдохновляет на добрые дела тех, кто сегодня под гвардейскими знаменами несет нелегкую ратную службу, помогает воспитывать у воинов чувство гордости за свою армию, свое Отечество.
См.: Военная энциклопедия И.Д. Сытина. С.201.
Бобровский П.О. История Лейб-гвардии Преображенского полка. Спб, 1900. Т.I. С.376.; Валькович А.М. Чада мои возлюбленные.//Родина, 2000, №11. С.26.
Письма и бумаги императора Петра Великого. Спб. 1887. Т. I. С.365.
Журнал или Поденная записка блаженныя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великого с 1698 года до заключения Нейштадтского мира. Спб., 1770, Ч.I, С.12.
Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549 "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
Дирин П.Н. История лейб-гвардии Семеновского полка. Т. 1. Спб., 1883. С. 158-161.
Краткая история лейб-гвардии Измайловского полка. Спб., 1830. С. 4
Материал подготовлен в
Научно-исследовательском институте военной
истории Военной академии Генерального штаба
Вооруженных сил Российской Федерации
Поэт - гвардейский офицер
Наконец 22 ноября 1834 года высочайшим приказом Лермонтов был "произведен по экзамену" из юнкеров в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. Это был один из прославленных гвардейских полков. Во время Отечественной войны 1812-1814 годов он участвовал во многих боях, в том числе в Бородинском сражении и в битве под Лейпцигом. 19 марта 1814 года лейб-гвардии Гусарский полк вместе с другими русскими войсками вступил в Париж.
4 декабря 1834 года на основании высочайшего повеления последовал соответствующий приказ командира Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров барона К. А. Шлиппенбаха. Наступил долгожданный день освобождения от стеснительного режима военного учебною заведения. Лермонтов впервые надел офицерский гусарский мундир и в тот же вечер явился в нем на бал в один из частных петербургских домов.
Лейб-гвардии Гусарский полк был расквартирован в казармах на окраине Царского Села, известной под названием Софии. 13 декабря Лермонтов впервые прибыл в полк. На другой день Наталья Алексеевна Столыпина, сестра Елизаветы Алексеевны, писала из Петербурга дочери Анне Григорьевне: "...Лермантов (так в письме.- Авт.) мундир надел, кажется, 1 декабря, вчерась приезжал прощаться и поехал в Царское Село. Тетушка Е. А. Арсеньева, само собою разумеется, в восхищении".
Прибыв в полк, Лермонтов, по заведенному порядку, представился сначала командиру полка генерал-майору Михаилу Григорьевичу Хомутову. Ему в то время было около сорока лет, он родился в 1795 году и принадлежал к поколению, из которого вышли декабристы. Участник Отечественной войны, побывавший в 1814-1815 годах вместе с русской гвардией в Париже, Хомутов, образованный молодой генерал, был лично знаком с П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, А. С. Пушкиным и многими другими литераторами Петербурга. Не чуждый литературных интересов, он впоследствии высоко ценил дарование Лермонтова и всегда относился к нему очень доброжелательно. Представлял Лермонтова командиру полка, штаб- и обер-офицерам родственник поэта Алексей Григорьевич Столыпин, который после четырехлетнего перерыва в апреле 1833 года в чине поручика вернулся на военную службу в родной гусарский полк. Он пользовался среди сослуживцев всеобщим уважением. Поэт стал часто бывать в доме Хомутова, где у него установились дружеские отношения с сестрой командира полка, Анной Григорьевной. Ей Лермонтов посвятил впоследствии известное стихотворение, начинающееся словами "Слепец, страданьем вдохновенный..." (двоюродным братом Хомутовым приходился слепой поэт И. И. Козлов).
Маршировка юнкеров. Литография по рисунку А. П. Шан-Гирея
В 1839 году в связи с уходом Хомутова из полка офицеры, в том числе и Лермонтов, подарили ему коллекцию своих портретов, написанных художником А. И. Клюндером (ныне она хранится в Эрмитаже и частично в Павловском дворце-музее).
Прибыв в полк в 1834 году, корнет Лермонтов был зачислен в седьмой эскадрон, которым командовал ротмистр Николай Иванович Бухаров. По воспоминаниям князя А. В. Мещерского, это был "настоящий тип старого гусара прежнего времени, так верно и неподражаемо описанного Денисом Давыдовым... Вечно добродушный собутыльник, дорогой и добрейший товарищ, он был любим всеми офицерами полка". Лермонтов полюбил Бухарова, человека большого сердца и пылкого характера, и впоследствии, в 1838 году, посвятил ему два стихотворения. В одном из них он писал:
Для нас в беседе голосистой Твой крик приятней соловья, Нам мил и ус твой серебристый, И трубка плоская твоя. Нам дорога твоя отвага, Огнем душа твоя полна, Как вновь раскупренная влага В бутылке старого вина. Столетья прошлого обломок, Меж нас остался ты один, Гусар прославленных потомок, Пиров и битвы гражданин.
В парке усадьбы Н. И. Бухарова (в Михалеве Псковской губернии) стояла беседка с надписью: "Моим товарищам лейб-гусарам". По преданию, в числе этих товарищей, в честь посещения которых она воздвигнута, был и Лермонтов.
В гусарском полку служил корнет граф Александр Владимирович Васильев. Он рассказывал одному из первых биографов Лермонтова, П. К. Мартьянову, о визите к нему Лермонтова вскоре после прибытия в полк. Слухи о том, что Лермонтов пишет стихи, и списки известных юнкерских стихотворений и поэм предшествовали его появлению в полку. После обычных приветствий любезный хозяин обратился к гостю с вопросом:
Надеюсь, что вы познакомите нас с вашими литературными произведениями?
Лермонтов нахмурился и, немного подумав, отвечал:
У меня очень мало такого, что интересно было бы читать.
Однако мы кое-что читали уже.
Всё пустяки! - засмеялся Лермонтов. - А впрочем, если вас интересует это, заходите ко мне, я покажу вам.
Когда же любопытствовавшие приходили к нему, Лермонтов показывал немногое и, как будто опасаясь произвести неблагоприятное впечатление, читал очень неохотно. Тем не менее в полку были сослуживцы, которые чтили в Михаиле Юрьевиче поэта и гордились им.
Служба в лейб-гвардии Гусарском полку отнимала не так уж много времени. Труднее было летом, в лагере, когда ученья производились каждый день. На ученьях, маневрах и смотрах должны были находиться все числящиеся в полку офицеры. В остальное время служба офицеров, не командовавших частями, ограничивалась караулом во дворце, дежурством в полку или случайными нарядами. Поэтому молодые офицеры, не занятые службой, уезжали в Петербург и часто оставались там до очередного наряда. На случай неожиданного требования начальства в полку всегда находилось несколько офицеров, которые отбывали за товарищей службу с зачетом очереди наряда.
Вопрос о том, где жил Лермонтов в Царском Селе в 1834-1840 годах, до сих пор не может считаться решенным. Основательно рассматривает его Г. Г. Бунатян в книге "Город муз", где она опирается на старые планы Царского Села. Вполне вероятно, что в Софии (где одна из улиц переименована в улицу Лермонтова) поэт располагал служебной офицерской квартирой, но вместе с тем Лермонтов с А. А. Столыпиным (Монго) и А. Г. Столыпиным могли иметь и другую квартиру в городе. По-видимому, в 1834-1836 и в 1838-1840 годах это были разные квартиры.
К немногим памятным местам, связанным в Царском Селе с именем Лермонтова, относятся сохранившиеся до нашего времени Орловские ворота. Они были сооружены в 1772 году по проекту архитектора Ринальди. У этих ворот ежесуточно дежурили лейб-гусары (казармы полка находились неподалеку).
Е. А. Арсеньева не поскупилась снабдить внука всем необходимым, чтобы он не чувствовал себя неловко среди богатой гвардейской молодежи. Корнеты лейб-гвардии Гусарского полка получали тогда по действовавшим штатам 1802 года окладного жалования по 276 рублей в год и рационных денег 84 рубля. По тем временам это были немалые деньги, но их, конечно, не могло хватить при образе жизни, принятом в гусарской среде. Поэтому Е. А. Арсеньева выдавала своему любимцу до 10000 рублей в год. В Тарханах насчитывалось около шестисот душ крестьян; Арсеньева - помещица средней руки, и собирать такую сумму ежегодно ей было нелегко. Кроме того, в Царское Село в конце декабря 1834 года прибыли повар, два кучера, слуга (все четверо - крепостные из дворовых Тархан). Несколько лошадей и экипаж стояли на конюшне. Эти лошади предназначались для частых поездок в Петербург, так как Лермонтов большую часть свободного времени проводил в столице, в квартире бабушки.
31 декабря 1834 года Е. А. Арсеньева, довольная успехами внука, писала своей приятельнице П. А. Крюковой: "Гусар мой по городу рыщет, и я рада, что он любит по балам ездить: мальчик молоденький, в хорошей компании и научится хорошему, а ежели только будет знаться с молодыми офицерами, то толку немного будет".
Почти повседневное пребывание в Петербурге было обычным для царскосельских гусаров. Так уж повелось, что в дни праздников, светских балов, маскарадов, постановок новых опер или балетов, в дни дебютов приезжих знаменитостей гусарские офицеры уезжали в Петербург, и далеко не все возвращались своевременно в полк.
А. В. Васильеву запомнилось, как однажды, это было скорей всего весной 1835 года, командир полка М. Г. Хомутов приказал полковому адъютанту графу И. К. Ламберту назначить на следующее утро полковое учение. Но адъютант доложил, что вечером идет опера Обера "Фенелла" ("Немая из Портичи") и большая часть офицеров находится в Петербурге, так что многие, не зная о наряде не смогут быть на ученье. Командир полка принял во внимание этот доклад и отложил ученье до следующего дня.
Лермонтов жил с товарищами по полку дружно, и офицеры любили его за ценившуюся тогда "гусарскую удаль". Но многое в жизни однополчан было чуждо поэту. По свидетельству А. В. Васильева, в гусарском полку было немало страстных игроков и любителей грандиозных попоек с музыкой, женщинами, пляской. У Герздорфа, Бакаева и Ломоносова постоянно шла крупная игра, проигрывались десятки тысяч рублей, другие богатые офицеры тратили тысячи на кутежи. Лермонтов принимал участие в игре, бывал на пирушках, но сердце его не лежало ни к тому, ни к другому. Он ставил несколько карт, брал или сдавал, смеялся и уходил.
Из всех удовольствий, которым предавались офицеры, Лермонтов по-настоящему любил только цыган с их песнями и плясками. В ту пору привез из Москвы свой хор знаменитый Илья Соколов, воспетый Пушкиным. У него были первые по тому времени певицы: Любаша, Стеша, Груша, Танюша. Они увлекали и молодежь, и стариков. Сначала цыгане обосновались в Павловске, и гусары часто наезжали к ним.
Юнкер Л. Н. Хомутов. Рис. М. Ю. Лермонтова. 1832-1834 гг.
Вот как описывала несколько позднее выступление цыган газета "Северная пчела": "...вошел хор цыган. Женщины сели полукругом, посредине зала, между столами. Мужчины стали позади стульев, а в середине полукруга стал, с гитарою в руках, хоревод, известный Илья Осипович. Запели сперва заунывную песнь. Соловьиный голосок прославленной Пушкиным Тани разнесся по залу и зашевелил сердца слушателей. Потом пошли разные песни, заунывные и плясовые, и за каждым разом раздавались громкие рукоплескания и восклицания "браво, брависсимо!". Несколько песен слушатели заставили повторить... Можно смело сказать, что все присутствующие приведены были в восторг!"
Лермонтова в этих поездках к цыганам привлекали их песни, их своеобразный быт, необычность типов и характеров, а главное - независимость таборной жизни, которую они воспевали.
Д. А. Столыпин рассказал П. К. Мартьянову, что он однажды приехал к Лермонтову в Царское Село и после обеда отправился с ним к цыганам, где они провели целый вечер. На вопрос, какую песню Лермонтов любит более всего, поэт ответил: "А вот послушай!" И велел спеть. Начала песни Столыпин не запомнил, но говорил, что дальше шли слова: "А ты слышишь ли, милый друг, понимаешь ли..." И еще: "Ах ты, злодей, злодей!.." Вот эту песню он особенно любил и за мотив, и за слова.
Шумные гусарские проказы только в первое время после выпуска из школы занимали Лермонтова.
Рассеянная жизнь в среде военной молодежи и в петербургском свете не мешала Лермонтову много читать и даже работать над новыми произведениями. Законченную еще в Школе юнкеров кавказскую романтическую поэму "Хаджи Абрек" он, как и все предыдущие свои произведения, не торопился отдать в печать. Без ведома Лермонтова поэма эта, понравившаяся О. И. Сенковскому - редактору "Библиотеки для чтения", была напечатана в августовской книжке журнала за 1835 год. По словам А. П. Шан-Гирея, "Лермонтов был взбешен; но, по счастью, поэму никто не разбранил, напротив, она имела некоторый успех, и он стал продолжать писать, но всё еще не печатать".
По недостоверным сведениям, идущим от брата Н. Н. Пушкиной, И. Н. Гончарова, и от А. В. Васильева, сослуживцев Лермонтова по полку, Пушкин читал "Хаджи Абрека" и отнесся к ее автору сочувственно; будто бы он даже сказал: "Далеко мальчик пойдет!" Известно, что в библиотеке Пушкина этот том журнала сохранился, но никаких помет в нем нет. Не располагаем мы и точными сведениями о личном знакомстве Лермонтова с Пушкиным. А. П. Шан-Гирей определенно заявлял: "Лермонтов не был лично знаком с Пушкиным, но мог и умел ценить его".
Е. А. Арсеньевой не было в Петербурге, когда "Хаджи Абрек" появился в печати; весной 1835 года она уехала по хозяйственным делам в Тарханы. Это была первая ее разлука с внуком. И не было предела радости, когда Елизавета Алексеевна получила книжку журнала с поэмой ее Мишеньки. "Стихи твои, мой друг, я читала бесподобные, - писала она внуку из Тархан 18 октября 1835 года, - а всего лучше меня утешило, что тут нет нонышней модной неистовой любви". Е. А. Арсеньева показывала журнал гостившему у нее брату Афанасию Алексеевичу и жене его Марии Александровне Столыпиным. Им тоже поэма очень понравилась.
В одном из писем Лермонтов сообщал бабушке о том, что пишет пьесу. Речь, конечно, шла о "Маскараде". В письме от 18 октября Елизавета Алексеевна с большой заинтересованностью спрашивала: "...да как ты не пишешь, какую ты пиесу сочинил, комедия или трагедия, все, что до тебя касается, я неравнодушна, уведомь, а коли можно, то и пришли через почту".
Прошло два месяца, и 20 декабря Лермонтов получил отпуск "по домашним обстоятельствам". Через Москву он отправился в Тарханы. 17 января 1836 года Е. А. Арсеньева писала своей приятельнице П. А. Крюковой: "Я через 26 лет после смерти мужа, в первый раз встретила новый 1836 год в радости: Миша приехал ко мне накануне нового года. Что я чувствовала, увидя его, я не помню и была как деревянная, но послала за священником служить благодарный молебен. Тут начала плакать, и легче стало".
В середине марта 1836 года Лермонтов вернулся в Петербург и вновь был зачислен "на лицо" в лейб-гвардии Гусарском полку.
Еще в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров Лермонтов мечтал о том времени, когда он вырвется на свободу. Молодой гусарский офицер получил, благодаря некоторым связям бабушки, доступ в петербургский свет. Лермонтов понимал, что поэтическое дарование ко многому его обязывает, он верил в свое призвание, честолюбивое стремление занять прочное положение в высшем петербургском обществе влекло его в ту сферу, где меньше всего могли бы оценить его ум и талант. Не решаясь еще выступить в печати, не надеясь обратить на себя внимание своими произведениями, молодой человек рассчитывал добиться успеха какой-либо смелой интригой.
Вскоре в романе "Княгиня Литовская" - произведении в значительной степени автобиографическом - Лермонтов, характеризуя поведение Жоржа Печорина, очень точно определил эти холодные стратегические расчеты молодого человека, вступающего в светское общество:
"...Печорин был еще в свете человек - довольно новый: ему надобно было, чтобы поддержать себя, приобрести то, что некоторые называют светскою известностию, т. е. прослыть человеком, который может делать зло, когда ему вздумается; несколько времени он напрасно искал себе пьедестала, вставши на который, он мог бы заставить толпу взглянуть на себя; сделаться любовником известной красавицы было бы слишком трудно для начинающего, а скомпрометировать девушку молодую и невинную он бы не решился..." Надо было избрать своей жертвой особу, которая "не была ни то, ни другое. Как быть? В нашем бедном обществе фраза: он погубил столько-то репутаций - значит почти: он выиграл столько-то сражений".
При самом вступлении в светский круг такой случай представился. 4 декабря 1834 года Лермонтов встретился на балу с Екатериной Александровной Сушковой. Она была всего на два года старше Лермонтова; ей шел двадцать третий год, - по тем временам считалось, что это уже не ранняя молодость.
Четыре года назад, еще до встречи с Н. Ф. Ивановой и до знакомства с Варенькой Лопухиной, летом 1830 года Лермонтов был по-мальчишески увлечен черноглазой кокеткой Катюшей Сушковой, которая охотно принимала от него стихотворные посвящения, но подтрунивала над ним и не относилась серьезно к его чувствам. Дело было в Середникове - живописном подмосковном имении Д. А. Столыпина. 1 октября 1830 года Сушкова уехала в Петербург и с тех пор не встречалась с Лермонтовым. Теперь она была увлечена Алексеем Лопухиным, братом Вареньки, ожидала его приезда из Москвы и в нетерпении досадовала, что он все не едет.
На другой вечер Лермонтов снова появился у Сушковых. "Он меня заговорил, развеселил, рассмешил разными рассказами, - вспоминала Сушкова. - Потом он попросил разрешения погадать на руке.
Эта рука обещает много счастия тому, кто будет обладать ею и целовать ее, и потому я первый воспользуюсь. - Тут он с жаром поцеловал и пожал ее.
Я выдернула руку, сконфузилась, раскраснелась и убежала в другую комнату, - вспоминает Сушкова. - Что это был за поцелуй! Если я проживу сто лет, то и тогда я не позабуду его; лишь только я теперь подумаю о нем, то кажется, так и чувствую прикосновение его жарких губ; это воспоминание и теперь еще волнует меня, но в ту самую минуту со мной сделался мгновенный, непостижимый переворот; сердце забилось, кровь так и переливалась с быстротой, я чувствовала трепетание всякой жилки, душа ликовала... Всю ночь я не спала, думала о Лопухине, но еще более о Мишеле... я стала сравнивать Лопухина с Лермонтовым; к чему говорить, на чьей стороне был перевес?"
Сушкова рассказала в своих записках о следующей встрече с Лермонтовым на балу у адмирала А. С. Шишкова, государственного деятеля и литератора начала XIX века в собственном его доме на Фурштадтской ул. (ныне ул. П. Лаврова, 14), куда Михаил Юрьевич проник только для того, чтобы увидеться с ней. Через день, 22 декабря, из Москвы приехал Лопухин. Напрасно Сушкова пыталась уверить себя, что она по-прежнему любит Лопухина: "...все мои помышления были для Лермонтова. Я вспоминала малейшее его слово, везде видела его жгучие глаза, поцелуй его все еще звучал в ушах и раздавался в сердце, но я не признавалась себе, что люблю его".
Столыпин (Монго) А. А. Акварель А. И. Клюндера. 1840 г.
Вряд ли следует оправдывать Лермонтова в этой печальной и недоброй интриге. Вероятно, Сушкова не заслужила такого отношения со стороны поэта. История с ней не самая светлая страница в трудной и противоречивой жизни поэта. Не вызывает сомнений, что он стремился во что бы то ни стало помешать браку Лопухина с Сушковой, хотя он не мог не видеть, что Лопухин действительно увлечен Екатериной Александровной, мучается ревностью и чуть ли не готов драться на дуэли. На другой день после приезда Лопухина, 23 декабря 1834 года, Лермонтов писал в Москву сестре Алексея Марии Александровне:
"Я теперь бываю в свете... для того, чтобы меня узнали и чтобы доказать, что я способен находить удовольствие в хорошем обществе; а!!! я ухаживаю и вслед за объяснением в любви говорю дерзости; это еще забавляет меня немного, и хотя это не совсем ново, но по крайней мере встречается не часто!.. Вы подумаете, что за это меня гонят прочь... о нет, совсем напротив... женщины уж так созданы, у меня появляется смелость в отношениях с ними; ничто меня не волнует - ни гнев, ни нежность; я всегда настойчив и горяч, но мое сердце довольно холодно; и способно забиться только в исключительных случаях: не правда ли, я далеко пошел!.. И не думайте, что это бахвальство: я теперь скромнейший человек и притом хорошо знаю, что этим ничего не выиграю в ваших глазах; я говорю Так, потому что только с вами решаюсь быть искренним. Вы одна меня сумеете пожалеть, не унижая, ведь я сам себя унижаю; если бы я не знал вашего великодушия и вашего здравого смысла, то не сказал бы того, что сказал <...>
Я был в Царском Селе, когда приехал Алексис; узнав о том, я едва не сошел с ума от радости: я поймал себя на том, что разговаривал сам с собой, смеялся, потирая руки; вмиг возвратился я к прошедшим радостям, двух ужасных лет как не бывало...
На мой взгляд, ваш брат очень переменился, он толст, как я когда-то был, румян, но всегда серьезен и солиден; и все же мы хохотали как сумасшедшие в вечер нашей встречи - и бог знает над чем?
Послушайте, мне показалось, будто он чувствует нежность к m-lle Катерине Сушковой... известно ли вам это? Дядюшки этой девицы хотели бы их повенчать!.. Сохрани боже!.. Эта женщина - летучая мышь, крылья которой цепляются за все встречное! Было время, когда она мне нравилась; теперь она почти принуждает меня ухаживать за ней... но, не знаю, есть что-то в ее манерах, в ее голосе жесткое, отрывистое, надломанное, что отталкивает; стараясь ей нравиться, находишь удовольствие компрометировать ее, видеть ее запутавшейся в собственных сетях".
А. А. Лопухин пробыл в Петербурге около двух недель, до 5 января 1835 года. События этих дней подробно освещены в записках Сушковой. "Я провела ужасные две недели между двумя этими страстями, - вспоминала она. - Лопухин трогал меня своею преданностью, покорностью, смирением, но иногда у него проявлялись проблески ревности. Лермонтов же поработил меня совершенно своей взыскательностью, своими капризами, он не молил, но требовал любви, он не преклонялся, как Лопухин, перед моей волей, но налагал на меня свои тяжелые оковы, говорил, что не понимает ревности, но беспрестанно терзал меня сомнениями и насмешками", - писала Е. А. Сушкова.
Наконец 5 января, в день отъезда Лопухина, Лермонтов отправил по городской почте Е. А. Сушковой анонимное письмо. Впоследствии в письме к А. М. Верещагиной он сам рассказал об этих днях:
"Алексис мог рассказать вам кое-что о моем образе жизни, но ничего интересного, разве что о начале моих приключений с m-lle Сушковой, конец которых несравненно интереснее и забавнее. Если я начал ухаживать за нею, то это не было отблеском прошлого - вначале это было для меня просто развлечение, а затем, когда мы поняли друг друга, стало расчетом: и вот каким образом. Вступая в свет, я увидел, что у каждого был какой-нибудь пьедестал: богатство, имя, титул, покровительство... я увидел, что если мне удастся занять собою одно лицо, другие незаметно тоже займутся мною. <...>
Я понял, что m-lle С., желая изловить меня (техническое выражение), легко скомпрометирует себя, ради меня; потому я ее и скомпрометировал, насколько было возможно, не скомпрометировав самого себя: я обращался с нею в обществе так, как если бы она была мне близка, давая ей чувствовать, что только таким образом она может покорить меня... Когда я заметил, что мне это удалось, но что еще один шаг меня погубит, я прибегнул к маневру. Прежде всего в свете я стал более холоден с ней, а наедине более нежным, чтобы показать, что я ее более не люблю, а что она меня обожает (в сущности это неправда); когда она стала замечать это и пыталась сбросить ярмо, я в обществе первый покинул ее, я стал жесток и дерзок, насмешлив и холоден с ней, я ухаживал за другими и рассказывал им (по секрету) выгодную для меня сторону этой истории. Она так была поражена неожиданностью моего поведения, что сначала не знала, что делать, и смирилась, а это подало повод к разговорам и придало мне вид человека, одержавшего полную победу; затем она очнулась и стала везде бранить меня, но я ее предупредил, и ненависть ее показалась ее друзьям (или врагам) уязвленной любовью. Затем она попыталась вновь вернуть меня напускною печалью, рассказывала всем близким моим знакомым, что любит меня, - я не вернулся к ней, а искусно всем этим воспользовался. Не могу сказать вам, как все это пригодилось мне - это было бы слишком долго и касается людей, которых вы не знаете. Но вот смешная сторона истории: когда я увидел, что в глазах света надо порвать с нею, а с глазу на глаз все-таки еще казаться ей верным, я живо нашел чудесный способ - я написал анонимное письмо: "m-lle, я человек, знающий вас, но вам неизвестный и т. д... предупреждаю вас, берегитесь этого молодого человека: М. Л. Он вас соблазнит и т. д... вот доказательства (разный вздор) и т. д..." Письмо на четырех страницах!" (Это письмо до нас не дошло. Пересказ его сохранился в тексте записок Е. А. Сушковой и в неоконченном романе "Княгиня Литовская", где в образе Елизаветы Николаевны Негуровой отчетливо проступают черты Е. А. Сушковой).
Далее Лермонтов продолжал: "Я искусно направил это письмо так, что оно попало в руки тетки; в доме гром и молния. На другой день еду туда рано утром, чтобы, во всяком случае, не быть принятым. Вечером на балу я с удивлением рассказываю ей это; она сообщает мне ужасную и непонятную новость, и мы делаем разные предположения - я все отношу на счет тайных врагов, которых нет; наконец, она говорит мне, что ее родные запрещают ей разговаривать и танцевать со мною, - я в отчаянии, но остерегаюсь нарушить запрещение дядюшек и тетки. Так шло это трогательное приключение, которое, конечно, даст вам обо мне весьма лестное мнение. Впрочем, женщина всегда прощает зло, которое мы причиняем другой женщине (афоризмы Ларошфуко). Теперь я не пишу романов - я их делаю.
Итак, вы видите, я хорошо отомстил за слезы, которые меня заставило пролить пять лет тому назад кокетство m-lle С. О! мы еще не расквитались: она заставляла страдать сердце ребенка, а я всего только подверг пытке самолюбие старой кокетки, которая, может быть, еще более... но, во всяком случае, я в выигрыше, она мне сослужила службу! О, я ведь очень изменился..."
Судя по запискам Сушковой, она не сразу догадалась, кто автор анонимного письма. Сушковы отказали Лермонтову от дома, но он еще несколько раз встречался с Екатериной Александровной в свете и продолжал некоторое время вести двойную игру. Сушкова все еще была ослеплена, отрезвление наступило только после того, когда в ответ на прямой вопрос Лермонтов заявил ей: "Я вас больше не люблю, да, кажется, и никогда не любил".
Вскоре Е. А. Сушкова уехала в деревню, а через три года после разрыва с Лермонтовым, в 1838 году, вышла замуж за старого своего поклонника, дипломата А. В. Хвостова, и Лермонтов присутствовал на ее свадьбе.
Но более, чем история с Е. А. Сушковой, Лермонтова взволновало известие о том, что любимая им Варенька Лопухина, так и не дождавшись его приезда в Москву, дала согласие выйти замуж за Николая Федоровича Бахметева. Это случилось весной 1835 года. Видимо, на Варвару Александровну произвело тяжелое впечатление стремление Лермонтова расстроить брак ее брата Алексея с Сушковой, и она не сразу поняла, что не вероломство по отношению к другу, а искреннее желание спасти его от неудачного выбора руководило Лермонтовым. Как бы там ни было, но слухи, которые дошли до Варвары Александровны из Петербурга, вся остроумная, однако жестокая история с анонимным письмом, недоумение и раздражение Алексея Александровича против Лермонтова - все это внесло смятение в ее доверчивую душу, и ей показалось, что ее привязанность к Лермонтову, ее вера в него навсегда разрушены.
А. П. Шан-Гирей рассказал в своих воспоминаниях о том, как принял Лермонтов известие о замужестве Варвары Александровны: "...я имел случай убедиться, что первая страсть Мишеля не исчезла. Мы играли в шахматы, человек подал письмо; Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и хотел спросить, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: "вот новость - прочти", и вышел из комнаты".
Портрет неизвестного офицера. Рис. М. Ю. Лермонтова. 1832-1834 гг.
Свадьба Варвары Александровны и Николая Федоровича Бахметева состоялась в доме Лопухиных в Москве на Молчановке 25 мая 1835 года. Н. Ф. Бахметев был старше жены на семнадцать лет. Он оказался черствым и мелочным человеком. По его требованию Варваре Александровне пришлось уничтожить письма Лермонтова, адресованные к ней. Чтобы спасти кое-что из его рукописей и рисунков, она передала их Александре Михайловне Верещагиной.
Лермонтов встретился с Варварой Александровной только в конце 1835 года, когда был в Москве проездом в Тарханы. Состоялся очень трудный для обоих разговор. Все недоразумения разъяснились. Но возврата к прошлому быть не могло. Все было кончено. Последняя встреча их произошла в 1838 году в Петербурге. Варвара Александровна не нашла счастья в браке. Всю жизнь она оставалась верна своему глубокому чувству к поэту, пережила Лермонтова на десять лет, много страдала и умерла в 1851 году тридцати шести лет от роду.
Когда Лермонтов приехал в 1832 году из Москвы в Петербург, он был уже не только страстным театралом, но и автором трех драм: "Испанцы", "Menschen und Leidenschaften" ("Люди и страсти") и "Странный человек". Лермонтов пережил увлечение драматургией Шиллера, в которой московская передовая молодежь нашла выражение своих лучших дум и чувств, он оценил "Гамлета" Шекспира и проникся восторженной любовью к величайшему русскому актеру П. С. Мочалову. В начале тридцатых годов Лермонтов был хорошо знаком с комедиями Д. И. Фонвизина и И. А. Крылова, с "Горем от ума" А. С. Грибоедова, а также с только что вышедшей в свет трагедией Пушкина "Борис Годунов". Конечно, мимо Лермонтова не прошли и романтические драмы Виктора Гюго, и споры, разгоравшиеся в те годы вокруг французского романтического театра.
Два года пребывания Лермонтова в Юнкерской школе не способствовали ознакомлению его с жизнью театрального Петербурга, но после производства в офицеры, с декабря 1834 года, он быстро наверстал упущенное и отлично разобрался в положении дел на столичной сцене.
В то время в Петербурге было три театра: Большой на Театральной площади (на месте нынешней Консерватории, разобран в 1889-1892 гг.), Александринский и Михайловский.
В Большом Каменном театре наряду с операми и балетами шли и драматические спектакли. Александринский театр предназначался для императорской драматической труппы, но первое время в нем ставились и гастрольные спектакли, как драматические, так и оперные. Сцена Михайловского театра, торжественно открытого 8 ноября 1833 года, чаще всего предоставлялась французской труппе и иноземным гастролерам. В этом театре бывала, главным образом, аристократическая публика, владеющая языками и пренебрежительно относящаяся к русскому национальному театру.
Спектакли в Большом и в Александринском театрах посещала самая разношерстная публика - и привилегированная и демократическая: мелкие чиновники, студенты, лавочники, ремесленники. Эту пестроту и классовое расслоение театральной толпы Лермонтов отчетливо показал в третьей главе романа "Княгиня Литовская", описывая разъезд из Александринского театра:
"Шумною и довольною толпою зрители спускались по извилистым лестницам к подъезду... внизу раздавался крик жандармов и лакеев. Дамы, закутавшись и прижавшись к стенам, и заслоняемые медвежьими шубами мужей и папенек от дерзких взоров молодежи, дрожали от холоду - и улыбались знакомым. Офицеры и штатские франты с лорнетами ходили взад и вперед, стучали - одни саблями и шпорами, другие калошами. Дамы высокого тона составляли особую группу на нижних ступенях парадной лестницы, смеялись, говорили громко и наводили золотые лорнетки на дам без тона, обыкновенных русских дворянок, - и одни другим тайно завидовали: необыкновенные красоте обыкновенных, обыкновенные, увы! гордости и блеску необыкновенных.
У тех и у других были свои кавалеры; у первых почтительные и важные, у вторых услужливые и порой неловкие!.. в середине же теснился кружок людей не светских, не знакомых ни с теми, ни с другими, - кружок зрителей. Купцы и простой народ проходили другими дверями. - Это была миньятюрная картина всего петербургского общества".
В светском и военном кругу Петербурга русская драма не была в почете. Зато оперы и балет особенно привлекали столичную молодежь. "Балет и опера завладели совершенно нашей сценой. Публика слушает только оперы, смотрит только балеты. Говорят только об опере и балете. Билетов чрезвычайно трудно достать на оперу и балет", - отмечал Гоголь в статье "Петербургская сцена в 1835-1836 гг.". А в "Петербургских записках 1836 года" Гоголь утверждал: "Балет и опера - царь и царица петербургского театра. Они явились блестящее, шумнее, восторженнее прежних годов".
Неудивительно, что Лермонтов, с отроческих лет игравший на скрипке и на рояле, обладавший превосходной музыкальной памятью и несильным, но приятным голосом, пристрастился к петербургской опере.
Если драматический театр в те годы был беден хорошим репертуаром и настоящие произведения классической драматургии только изредка появлялись в унылом потоке переводных и подражательных мелодрам, комедий и водевилей, то музыкальный репертуар столичных театров был богат лучшими произведениями больших мастеров современной европейской оперы и балета.
Зимой 1834/35 года на петербургской сцене с большим успехом шли "Водовоз" Керубини, "Иосиф Прекрасный" Мегюля, "Сандрильона" Штейбельта, "Севильский цирюльник" Россини, "Волшебный стрелок" Вебера, "Цампа" Герольда, "Две ночи" Буальдье и другие. 14 декабря 1834 года состоялось первое представление "Роберта-дьявола" Мейербера.
Кроме русской труппы в 1834-1835 годах в Петербурге была еще немецкая. Лермонтов бывал на спектаклях и той и другой и, по всей вероятности, слышал рижского певца Голланда не только в "Фенелле", но и в опере "Фра Дьяволо" Обера и в "Цампе" Герольда.
В 1835-1836 годах были поставлены "Влюбленная баядерка" Обера, "Тайный брак" и "Людовик" Герольда, "Швейцарская хижина" Адана и "Семирамида" Россини.
"Семирамида" шла в довольно скромной постановке, но певица Воробьева, а затем молодая дебютантка Степанова пользовались у публики большим и заслуженным успехом. Дуэт из этой оперы Лермонтов знал наизусть; по свидетельству А. М. Верещагиной, он пел одну из партий этого дуэта, "полагаясь на свою удивительную память, до потери дыхания".
20 декабря 1835 года Лермонтов, как уже упоминалось выше, получил "отпуск по домашним обстоятельствам в Тульскую и Пензенскую губернии на шесть недель". С конца декабря он отсутствовал и в Петербург вернулся лишь во второй половине марта 1836 года. Таким образом, большая часть театрального сезона 1835/36 года для Лермонтова пропала, но 19 апреля 1836 года он мог быть в Александринском театре на премьере "Ревизора" Гоголя, а 22 ноября 1836 года в Большом театре - на премьере оперы Глинки "Жизнь за царя". К сожалению, никаких документальных данных о посещении Лермонтовым этих спектаклей до нас не дошло, но, конечно, он посетил если не первое, то одно из первых представлений "Ревизора" и не раз слышал оперу Глинки. Эти постановки вызвали в Петербурге много горячих споров.
Каким событием были первые представления "Ревизора", можно судить по записи А. В. Никитенко в его дневнике от 28 апреля: "Комедия Гоголя "Ревизор" наделала много шуму. Ее беспрестанно дают - почти через день. Государь был на первом представлении, хлопал и много смеялся. Я попал на третье представление. Была государыня с наследником и великими княжнами. Их эта комедия тоже много тешила. Государь даже велел министрам смотреть "Ревизора". Впереди меня, в креслах сидели князь А. И. Чернышев и граф Е. Ф. Канкрин. Первый выражал свое удовольствие, второй только сказал:
Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу.
Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается. Я виделся сегодня с Гоголем. Он имеет вид великого человека, преследуемого оскорбленным самолюбием. Впрочем, Гоголь действительно сделал важное дело. Впечатление, производимое его комедией, много прибавляет к тем впечатлениям, которые накопляются в умах от существующего у нас порядка вещей".
Надо думать, что не прошла мимо внимания Лермонтова и статья П. А. Вяземского в пушкинском "Современнике", в которой утверждалось, что автор "Ревизора" является достойным и прямым наследником сатиры Фонвизина, Капниста и Грибоедова.
К сожалению, сведения о театральных впечатлениях Лермонтова, которыми мы располагаем, случайны и отрывочны. Ни разу не упомянув в известных нам произведениях и письмах оперу Глинки, Лермонтов несколько раз упоминает в романе "Княгиня Лиговская" онеру Обера "Фенелла" (или "Немая из Портичи").
"Давали Фенеллу (4-е представление). В узкой лазейке, ведущей к кассе, толпилась непроходимая куча народу... Печорин, который не имел еще билета и был нетерпелив, адресовался к одному театральному служителю, продающему афиши. За 15 рублей достал он кресло во втором ряду с левой стороны - и с краю..." - так начинается вторая глава романа "Княгиня Литовская".
Написанная в 1828 году французским композитором Даниелем Франсуа Обером (1782-1871) опера "Фенелла" (или "Немая из Портичи", "La Muette de Portici"), вместе с "Вильгельмом Теллем" Россини и "Робертом- дьяволом" Мейербера, создала целую эпоху в истории европейского музыкального театра. Большой успех этой оперы у современников объясняется не только ее музыкальными достоинствами и удачным либретто Скриба, но и воспоминаниями о революционных событиях, связанных с ее первыми представлениями на Западе.
В "Немой из Портичи" изображалось восстание итальянских рыбаков против вице-короля. В дни июльской революции 1830 года в Париже эта опера принималась восторженно, а в Брюсселе 25 августа взволнованные спектаклем слушатели вышли из театра на площадь с криками против деспотизма и гнета. Таков один из первых эпизодов восстания бельгийского народа за национальное освобождение. Это восстание, как известно, привело к отделению Бельгии от Голландии.
Показать "Немую из Портичи" на сцене российских императорских театров в том виде, в каком эта опера шла на Западе, не представлялось возможным. Цензура не разрешила бы такого революционного спектакля. Вместе с тем русская столичная сцена не хотела отставать от Европы: возникла необходимость приспособить нашумевшую оперу Обера для постановки в России. Вот почему директор театра А. М. Гедеонов представил 29 июля 1833 года свою переделку оперы с сохранением, впрочем, "всей музыки, декорации и извержения Везувия".
Бухаров Н. И. Акварель А. И. Клюндера. 1836 г.
Однако и в переделке Гедеонова "Немая из Портичи" не была допущена к постановке на императорской сцене. Опасную оперу разрешили поставить труппе немецких актеров на Александрипской сцене в сезон 1833/34 года. В эту зиму дебютировал в роли Фигаро в "Севильском цирюльнике" рижский певец Голланд. Его успех был так велик, что дирекция Александринского театра именно для него решила поставить нашумевшую за границей оперу Обера. В этой постановке "Немая из Портичи" была переименована в "Фенеллу", а немецкий текст подвергнут значительным изменениям.
Премьера "Фенеллы" состоялась 1 января 1834 года. Четвертое представление, упоминаемое в "Княгине Литовской", было 24 января, но Лермонтов в это время находился в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и едва ли мог присутствовать на спектакле. "Фенелла" шла на сцене Александринского театра с января 1834 года в течение многих лет; до 1841 года эта опера была представлена сто пятьдесят раз, и Лермонтов неоднократно слышал ее после 22 ноября 1834 года, когда был выпущен в лейб-гвардии Гусарский полк.
Третья глава романа "Княгиня Лиговская" начинается словами: "Почтенные читатели, вы все видели сто раз Фенеллу, вы все с громом вызывали Новицкую и Голланда, и поэтому я перескочу через остальные 3 акта и подыму свой занавес в ту самую минуту, как опустился занавес Александринского театра..."
Лермонтов хорошо знал "Фенеллу" и любил музыку этой оперы. Он упоминает о ней и в "Княгине Литовской", и в переписке с А. М. Верещагиной. В письме от 18 августа 1835 года А. М. Верещагина спрашивала: "А ваша музыка? Играете ли вы по-прежнему увертюру "Немой из Портичи"?"
В русской периодической печати за 1834-1835 годы постановке "Фенеллы" уделялось большое внимание. Из театральных заметок и статей, а также из писем и мемуаров современников видно, что первые спектакли "Фенеллы" были приняты петербургской публикой восторженно. Однако этот успех объяснялся главным образом внешней эффектностью постановки и личным очарованием балерины Новицкой, игравшей немую Фенеллу. Мария Дмитриевна Новицкая, родившаяся в 1816 году, окончила в 1834 году Петербургское театральное училище и еще на год была оставлена казенной пансионеркой "для усовершенствования". На выпускном спектакле "за усердие и успехи" Новицкая получила бриллиантовый фермуар. Вскоре ее определили в балетную труппу солисткой и исполнительницей первых пантомимных ролей. Слава Новицкой началась именно с "Фенеллы", где она исполняла роль немой рыбачки, героини оперы. Новицкая была любимицей петербургской публики. Однако в "Княгине Литовской" Жорж Печорин, соглашаясь с Л. Н. Негуровой, что "Новицкая очень мила", по существу отзывается о ней весьма сдержанно, не разделяя, очевидно, восторгов ее почитателей.
В музыкальном отношении, в особенности первые спектакли "Фенеллы", не были удачны. Современная критика отмечала случайный подбор исполнителей и отсутствие ансамбля. Фаддей Булгарин в "Северной пчеле" писал о постановке: "Мотивы в этой опере прелестные, и они-то, повторяемые хором и оркестром, составляют всю прелесть оперы на Петербургском театре. Самое действие чрезвычайно занимательно. Здесь действующее лицо есть чернь неаполитанская, которой представитель, г-н Голланд, в роли Фиорелло, во многих сценах превосходен. Необыкновенная жизнь, движения, песни и пляски народа, волнение умов и страстей, восстание, битвы, все это весьма занимательно для зрителя, которого внимание и любопытство беспрестанно возбуждаются и поддерживаются великолепными костюмами и декорациями, прелестными и оригинальными балетами и громкою, сладкозвучною и, так сказать, плясовою музыкой. Но все это очарование не производит настоящего музыкального впечатления, не нежит, не тревожит души, как соло и дуэты в итальянских операх, потому что... опера Фенелла представляется у нас без певцов, и нежная часть оперы для нас вовсе потеряна. Выходя из театра, забываешь, что был в опере. Кажется, будто видел балет".
В тридцатые годы XIX века в лейб-гвардии Гусарском полку, где служил Лермонтов, как и во всем гвардейском корпусе, существовал настоящий культ балета. "Офицеры переполняли театры... Дешевизна была непомерною, - вспоминал гвардейский офицер Колокольцев в журнале "Русская старина". - Я очень хорошо помню, что кресла 1-го ряда тогда стоили 5 рублей на ассигнации и ложи соответствовали такой же дешевизне... Гвардейские офицеры... всегда посещали театры не иначе, как в мундирах; это тогда как бы вошло в этикет, а в особенности в Михайловском театре, - там обязательно иначе нельзя было бывать, как в мундирах. Все это было принято, потому что театры часто бывали посещаемы членами императорской фамилии, которые постоянно приезжали в театры в мундирах...
Все тогдашнее офицерство, как я теперь вспоминаю, точно будто бы неведомой тогда силой было увлекаемо. Я не исключаю, впрочем, даже старших, и самый тогдашний наш генералитет: ибо наши полководцы и дивизионеры не пропускали ни одного балетного спектакля...
Я очень хорошо помню всю проделку тогдашнего выходящего, так сказать, из ряда волокитства за актрисами. Мимика офицеров из партера со сценой была доведена до утонченности".
Общение с воспитанницами театрального училища (здание помещалось на Екатерининском канале; ныне № 93 по каналу Грибоедова, перестроено) не ограничивалось одними спектаклями. Утром около одиннадцати часов, когда к училищу подъезжали театральные кареты, "обожатели" ожидали здесь своих возлюбленных верхом на лошадях и в экипажах. Современник рассказывает: "Выждав, когда тронутся кареты, буквально набитые девочками, обожатели тотчас начинали перегонять кареты и отыскивали, где сидят их возлюбленные, которые и сами тотчас же высовывались в окна карет. Тогда обожатели подъезжали, начинали разговор, передавались конфеты, фрукты и разные подарки, как-то: серьги, браслеты, колье и проч. Тут обыкновенно происходили разные сцены с классными дамами, которые сидели в каретах с девочками, и с театральным чиновником, который провожал поезд. Разумеется, что все слова, просьбы и угрозы классных дам и чиновника оставались без успеха... По возвращении с репетиции в училище, около 3 или 4 часов, повторялись те же самые проделки; потом вечером опять два раза, при поездке в театр и из театра".
Когда об этих проделках военной молодежи узнал великий князь Михаил Павлович, он отдал 7 сентября 1835 года по гвардейскому корпусу строжайший приказ: "Дошло до сведения государя императора, что многие из гг. гвардейских офицеров позволяют себе делать беспорядки в театрах и, по окончании театральных представлений, выходят на актерские подъезды и провожают воспитанниц как из театральной школы в театры, так и из театров обратно. Его императорское величество, с сожалением видя, что благовоспитанные гг. офицеры столь отличного корпуса забывают достоинство свое и, не уважая публики, наводят ей беспокойство, - высочайше повелеть соизволил объявить о сем по отдельному гвардейскому корпусу. С.-Петербургский военный генерал-губернатор имеет особое высочайшее повеление брать под арест тех, которые будут замечены в провождении воспитанниц и прочих беспорядках".
Однако введенные начальством строгости не останавливали гвардейскую молодежь.
В 1835-1836 годах в Петербурге даже существовало "Общество танцоров поневоле", состоявшее всего только из двенадцати членов. Лермонтов в это общество не входил, но, по всей вероятности, знал о нем и мог бывать там в качестве гостя. Один из самых близких приятелей Лермонтова, Константин Александрович Булгаков, был ревностным участником собраний и затей этого общества. "Общество это образовалось из людей, которые несколько лет сряду были каждый день в театре и, имея одинаковые цели и вкусы, поневоле сдружились, начали часто сходиться и потом дали своим сходкам некоторую своеобразную организацию..." - вспоминал один из его членов.
К. А. Булгаков, известный острослов, повеса и проказник, не раз переодевался ламповщиком и так пробирался на сцену. Однажды, подкупив кучера, он залез перед концом спектакля в театральную карету и лег между скамейками. Воспитанницы сначала не поняли, что у них под ногами. Когда карета тронулась, поднялся визг. Булгакова узнали, классная дама пожаловалась начальству, и ему пришлось неделю просидеть на гауптвахте.
Лермонтов, конечно, чувствовал, как пуста и бессодержательна жизнь гвардейского круга, но вместе с тем он участвовал в ней, не чуждался гусарских проказ и затей. Постоянными сотоварищами его во всевозможных "шалостях" были Булгаков и А. А. Столыпин (Монго), которому осенью 1836 года Лермонтов посвятил шутливую повесть в стихах, озаглавленную этим именем.
Петергоф. Терраса Монплезира. Литография. 1830-е гг.
Происхождение прозвища Монго объясняли по-разному. П. А. Висковатый, ссылаясь на Д. А. Столыпина, сообщал, что Лермонтову однажды в 1835 или в 1836 году "подвернулось лежавшее на столе сочинение на французском языке "Путешествие Монгопарка". Лермонтов воспользовался первыми двумя слогами. Таким образом, происхождение имени чисто случайное. Сама поэма получила название "Монго". Она пришлась по вкусу молодежи и во множестве рукописей и вариантов ходила по рукам. Весь Петербург знал ее, а за Столыпиным осталось прозвище. Сам он назвал им свою любимую... собаку". М. Н. Лонгинов утверждал, что прозвище Монго, независимо от поэмы и несколько раньше, Столыпин получил от клички своей породистой собаки, которая "прибегала постоянно на плац, где происходило гусарское ученье, лаяла, хватала за хвост лошадь полкового командира М. Г. Хомутова и иногда даже способствовала тому, что он скорее оканчивал скучное для молодежи ученье".
Тот же М. Н. Лонгинов оставил восторженную, вряд ли верную характеристику А. А. Столыпина (Монго): "Алексей Столыпин вышел в офицеры лейб-гвардии гусарского полка из юнкерской школы в 1835 году <...> Это был совершеннейший красавец: красота его, мужественная и вместе с тем отличавшаяся какой-то нежностью, была бы названа у французов "proverbiale". Он был одинаково хорош и в лихом гусарском ментике, и под барашковым кивером нижегородского драгуна и, наконец, в одеянии современного льва, которым был вполне, но в самом лучшем значении этого слова. Изумительная по красоте внешняя оболочка была достойна его души и сердца. Назвать "Монгу Столыпина" значит для людей нашего времени то же, что выразить понятие о воплощенной чести, образце благородства, безграничной доброте, великодушии и беззаветной готовности на услугу словом и делом. Его не избаловали блистательнейшие из светских успехов <...> Столыпин отлично ездил верхом, стрелял из пистолета и был офицер отличной храбрости".
Но в воспоминаниях другого из современников, князя М. Б. Лобанова-Ростовского, содержится мнение диаметрально противоположное. Этот мемуарист отмечает у А. А. Столыпина (Монго) "культ собственной особы", вспоминает, что тот "хотел прослыть умным, для чего шумел и пьянствовал... В сущности это был красивый манекен мужчины с безжизненным лицом и глупым выражением глаз... Он был глуп, сознавал это и скрывал свою глупость под маской пустоты и хвастовства".
Характерно, что далее М. Б. Лобанов-Ростовский в высшей степени положительно характеризует Лермонтова: "Я также подружился в том полку с родственником великолепного истукана (А. А. Столыпина. - Авт.), не имевшим, однако, с ним ничего общего. Это был молодой человек, одаренный божественным даром поэзии, притом - поэзии, проникнутой глубокой мыслью..."
Так отзывались два современника об А. А. Столыпине (Монго), человеке в то время близком поэту, именем которого названо произведение Лермонтова.
В первых же стихах повести Лермонтов характеризует Столыпина (Монго) как театрала и страстного балетомана:
Монго - повеса и корнет, Актрис коварных обожатель, Был молод сердцем и душой, Беспечно женским ласкам верил И на аршин предлинный свой Людскую честь и совесть мерил. Породы английской он был - Флегматик с бурыми усами, Собак и портер он любил, Не занимался он чинами, Ходил немытый целый день, Носил фуражку набекрень; Имел он гадкую посадку: Неловко гнулся наперед И не тянул ноги он в пятку, Как должен каждый патриот. Но если, милый, вы езжали Смотреть российский наш балет, То, верно, в креслах замечали Его внимательный лорнет. Одна из дев ему сначала Дней девять сряду отвечала, В десятый день он был забыт - С толпою смешан волокит. Все жесты, вздохи, объясненья Не помогали ничего... И зародился пламень мщенья В душе озлобленной его.
А. А. Столыпин был увлечен только что выпущенной из училища двадцатилетней танцовщицей Екатериной Егоровной Пименовой. Окончив балетное отделение Петербургского театрального училища в 1836 году, Пименова была определена в балетную труппу. По свидетельству одного из современников, В. П. Бурнашева, Путик - так называли Пименову в кругу театральной молодежи - постоянно привлекала все лорнеты лож и партера и в знаменитой бенуарной ложе "волокит" своим появлением "производила целую революцию". "Столыпин был в числе ее поклонников, да и он ей очень нравился".
По выходе из училища Пименова поступила на содержание к казанскому помещику-откупщику Моисееву и летом 1836 года жила на его даче близ Красного кабачка на Петергофской дороге. Столыпин (Монго) иногда тайно виделся с Пименовой. Однажды, во второй половине августа 1836 года, он в сопровождении Лермонтова отправился верхом из Царского Села к ней на дачу, но был там застигнут Моисеевым и его приятелями.
Быт театральной школы, жизнь воспитанниц и актрис, нравы театральной дирекции - все это было хорошо знакомо Лермонтову и нашло правдивое отражение в поэме "Монго":
Облокотившись у окна, Меж тем танцорка молодая Сидела дома и одна. Ей было скучно, и, зевая, Так тихо думала она: "Чудна судьба! о том ни слова - На матушке моей чепец Фасона самого дурного, И мой отец - простой кузнец!.. А я - на шелковом диване Ем мармелад, пью шоколад; На сцене - знаю уж заране - Мне будет хлопать третий ряд. Теперь со мной плохие шутки: Меня сударыней зовут, И за меня три раза в сутки Каналью-повара дерут. ........................ Теперь не то, что было в школе: Ем за троих, порой и боле, И за обедом пью люнель. А в школе... Боже! вот мученье! Днем - танцы, выправка, ученье, А ночью - жесткая постель. Встаешь, бывало, утром рано, Бренчит уж в зале фортепьяно, Поют все врозь, трещит в ушах; А тут сама, поднявши ногу, Стоишь, как аист, на часах. Флёри * хлопочет, бьет тревогу... Но вот одиннадцатый час, В кареты всех сажают нас. Тут у подъезда офицеры, Стоят все в ряд, порою в два... Какие милые манеры И всё отборные слова! Иных улыбкой ободряешь, Других бранишь и отгоняешь, Зато - вернулись лишь домой - Директор порет на убой: На взгляд не думай кинуть лишний, Ни слова ты сказать не смей... А сам, прости ему всевышний, Ведь уж какой прелюбодей!.."
* (Бернар Ноне Флёри - танцовщик и преподаватель танцев. Настоящее имя и фамилия - Бертран Ноне. )
Лермонтов, как частый посетитель балетных и оперных спектаклей в петербургских театрах, хорошо знал закулисную жизнь и быт театрального училища. Это чувствуется и в тексте "Монго", и в романе "Княгиня Лиговская".
Пребывание Лермонтова в середине 1830-х годов в лейб-гвардии Гусарском полку связано не только с военными, светскими и театральными интересами. В эти годы Лермонтов продолжает внимательно следить за журналами, за тем, что появляется в русской и западноевропейской литературе. Проза Пушкина, Гоголя, Бестужева-Марлинского, Н. Ф. Павлова, В. Ф. Одоевского, В. А. Соллогуба, а также романы Жорж Санд, первые романы Бальзака, романтические драмы и романы В. Гюго прочно входят в круг его чтения - поэта и прозаика. Воздействие их так же значительно, как несколько лет до того романтических поэм и "Евгения Онегина" Пушкина, поэзии Байрона, драматургии Шиллера и романов Вальтера Скотта. Можно сказать с уверенностью, что в Петербурге тех лет Лермонтов принадлежал к числу читателей, наиболее осведомленных в современной ему европейской литературе.
Вскоре это глубокое знакомство с мировой литературой и драматургией сказалось в работе над драмой "Маскарад" и романом "Княгиня Лиговская", а затем, конечно, и в работе над "Героем нашего времени".
"Маскарад" и "Княгиня Лиговская"
В тридцатых годах XIX века репертуар русского драматического театра все еще не отвечал запросам и устремлениям передовой молодежи. По-прежнему преобладали далекие от русской действительности, пустые, бессодержательные комедии; входили в моду неистовые мелодрамы; доживали свой век высокопарные трагедии. Чуткие зрители окружали восторженной любовью величайших актеров московской сцены П. С. Мочалова и М. С. Щепкина, но будущее русского театра зависело от успешного развития национальной русской драматургии, которая выражала бы думы и чаяния лучших людей этого трудного переходного времени, когда надежды на дворянскую революцию уже были развеяны, а идеология революционеров-демократов только начинала складываться.
В своей первой большой статье "Литературные мечтания", написанной в 1834 году, В. Г. Белинский восклицал: "О как было бы хорошо, если бы у нас был свой, народный, русский театр!.. В самом деле - видеть на сцене всю Русь, с ее добром и злом, с ее высоким и смешным, слышать говорящими ее доблестных героев, вызванных из гроба могуществом фантазии, видеть биение пульса ее могучей жизни..."
Не удовлетворен был положением на русской сцене своего времени и Гоголь: "Уже пять лет, как мелодрамы и водевили завладели театрами всего света. Какое обезьянство! Клянусь, XIX век будет стыдиться за эти пять лет!"
Гоголь с горечью отмечал: "Из театра мы сделали игрушку, вроде тех побрякушек, которыми заманивают детей, позабывши, что это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок". И он призывал к созданию русской самобытной драматургии, которая отражала бы русскую жизнь. "Где же жизнь наша? - сетовал он по поводу преобладания переводного и далекого от наших интересов репертуара. - Где мы со всеми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отражение ее видели мы в нашей мелодраме! Но лжет самым бессовестным образом наша мелодрама..."
Город Пушкин. Орловские ворота. Современное фото
Лермонтов, вероятно, читал и "Литературные мечтания" Белинского и "Петербургские записки 1836 года" Гоголя. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что эти размышления были очень близки Лермонтову, который в своих юношеских драмах "Menschen und Leidenschaften" ("Люди и страсти") и "Странный человек", при всей их незрелости, смело вторгался в русскую крепостническую действительность и пытался решить самые жгучие общественные вопросы своего времени.
В еще меньшей степени, чем водевиль и мелодрама, удовлетворяли Лермонтова псевдоисторические драмы реакционно-охранительного направления, в которых трескучая риторика заглушала слабые проблески драматизма (в театральной жизни середины тридцатых годов псевдоисторические драмы начали занимать заметное место).
Так, 15 января 1834 года в Петербурге на сцене Александринского театра состоялось первое представление драмы Н. В. Кукольника "Рука всевышнего отечество спасла". Этот спектакль вызвал оживленные толки и споры. Лермонтов жил в это время в Петербурге, но находился в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и видел этот спектакль позднее, после выпуска из школы.
Художественные достоинства драмы Кукольника "Рука всевышнего отечество спасла" весьма незначительны, но в политическом отношении эта драма соответствовала реакционным требованиям царского правительства. Николай I, посетивший премьеру, по окончании спектакля пришел на сцену и выразил свое удовольствие.
Первый спектакль был оформлен очень бедно. Театральная дирекция не разрешила никаких дополнительных расходов. Вместо Нижнего Новгорода декорация представляла немецкий город с ратушею из драмы "Гуситы под Наумбургом" Коцебу, а вместо Грановитой палаты была зала из "Битвы при Тивериаде" А. Н. Муравьева. Николай I приказал приостановить дальнейшие представления, написать исторически точные декорации и вообще "усовершенствовать" постановку. Когда все было готово, 18 февраля 1834 года Николай I снова присутствовал на спектакле и осыпал Кукольника милостями, поощряя не довольствоваться первыми успехами и продолжать работать в том же направлении.
Сочувственное отношение Николая 1 к драме "Рука всевышнего" предопределила дальнейшую судьбу Кукольника. Зато "Московский телеграф" Н. А. Полевого за отрицательный отзыв о драме Кукольника был закрыт. В литературных кругах распространилась эпиграмма:
Рука всевышнего три чуда совершила: Отечество спасла, Поэту ход дала И Полевсго погубила.
Ободренный "высочайшим вниманием", Н. В. Кукольник написал трагедию "Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский". Эта трагедия была поставлена в бенефис П. А. Каратыгина, выдающегося русского актера, 14 января 1835 года на сцене Александринского театра, а затем 23 января на сцене Большого театра. Возможно, что Лермонтов присутствовал на одном из этих спектаклей. Во всяком случае, мы определенно знаем, что к верноподданническим пьесам Кукольника он относился резко отрицательно. Официальная народность С. С. Уварова и жандармский патриотизм А. X. Бенкендорфа были чужды поэту, который хорошо знал жизнь и думы народа и который вскоре написал такие подлинно народные произведения, как "Бородино" и "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова".
На постановку "Скопина-Шуйского" Н. В. Кукольника, которая продолжала идти не только на сцене Александринского театра, но и на сцене Большого театра, Лермонтов откликнулся эпиграммой:
В Большом театре я сидел, Дазали Скопина: я слушал и смотрел. Когда же занавес при плесках опустился, Тогда сказал знакомый мне один: "Что, братец! жаль! - вот умер и Скопин!.. Ну, право, лучше б не родился".
Ироническое отношение Лермонтова к драме Кукольника понятно: Кукольник изображал Болотникова, предводителя крестьянских повстанцев, мелодраматическим злодеем, вором и грабителем. Случайно приставший к Болотникову герой драмы Прокопий Ляпунов, раскаявшись в своих поступках, ужасается, что он был в "союзе с бесчестным мужиком".
Историк петербургского театра А. И. Вольф так характеризует эту пьесу: "Воображения на нее было немного потрачено. К голым историческим фактам приплетена интрига самая дюжинная, герой и героиня личности бесцветные, выражающиеся самым напыщенным языком. Вот для примера отрывок из монолога Ляпунова: "Сюда, еретики; на руку русскую, на русский меч спешите! Нас двое с братом, разлучите нас! Как бы не так! Забыли вы, что русский меч с рукою русской сросся. Что русский меч и русский человек - святого царства дети-близнецы".
Такие возгласы вызывали гром аплодисментов тогдашней публики. Кукольник был вообще фаворитом гостинодворцев и даже апраксинцев (торговые магазины в Петербурге. - Авт.), охотников до риторики и до движения в пьесе, понимая под словом "движение" появление войска, сражения, звон колоколов, рукопашный бой, пальбу и проч.".
Отрицательное отношение Лермонтова к драме Кукольника разделял и Белинский. В статье "И мое мнение об игре г. Каратыгина" великий критик говорил о "натянутой роли Ляпунова и о его карикатурных возгласах своему мечу". В пьесе Кукольника Ляпунов с потешной торжественностью обращается к своему мечу: "Прости, мой меч, мой удалой товарищ! Ты и в грозе был другом бескорыстным". И прав современный исследователь, Б. В. Нейман, который полагает, что Лермонтов вспоминал о пьесе Кукольника, когда в стихотворении "Не верь себе, мечтатель молодой" (1839) сопоставлял поэта с трагическим актером:
Смешон твой плач и твой укор, С своим напевом заученным, Как разрумяненный трагический актер, Махающий мечом картонным...
Лермонтову была чужда псевдопатриотическая драматургия Кукольника. Историческая драма на русской сцене в тридцатых годах превращалась в орудие реакции. Продолжение традиций "Бориса Годунова" оказалось преждевременным и невозможным. Именно этим объясняется отсутствие исторических замыслов в драматургии Лермонтова в середине тридцатых годов. В 1835-1836 годах Лермонтов совершенно сознательно противопоставляет псевдопатриотической исторической драме пьесу из современной жизни.
Наблюдая жизнь и нравы петербургского света, Лермонтов в начале 1835 года задумал драму из современной действительности.
Гвардией назывались отборные, привилегированные воинские части, образованные Петром I из «потешных войск», вначале из Преображенского и Семеновского полков. Официально эти полки получили звание гвардейских (точнее - лейб — гвардейских) в 1700 году. Гвардейские солдаты отличались силой и ростом. Собакевич, расхваливая Чичикову своего умершего крепостного Степана Пробку, говорит: «Служи он в гвардии - ему бы Бог знает что дали ». Рост Пробки, если, конечно, верить Собакевичу, составлял 3 аршина, 1 вершок, то есть 217 сантиметров.
ЛЕЙБ — ГВАРДИЯ, то есть дословно «личная охрана», первоначально состояла при особе императора, затем эта функция у нее отпала и частица «лейб» утратила свое значение, хотя до самого 1917 года подавляющее большинство гвардейских частей официально именовались ЛЕЙБ — ГВАРДЕЙСКИМИ - дань традиции. Таким образом, никакой особой лейб — гвардии, отличавшейся от гвардии, в России не было.
Служить офицером в гвардии считалось особо почетным, но требовало немалых дополнительных расходов престижного характера - на приобретение дорогой амуниции, коней и т. п. Поэтому офицерами в гвардии служили только выходцы из состоятельных дворянских семей. С начала XIX века гвардейский офицерский чин (исключая полковников и генералов) по значимости на два класса превышал армейский: так, гвардейский поручик был равен армейскому капитану. С 1884 года различие составило один чин.
Считая себя военной элитой, офицеры гвардии с высокомерием относились к своим армейским коллегам. Недаром Грушницкий в «Княжне Мери» с обидой говорит о них: «Эта гордая стать смотрит на нас, армейцев, как на диких ».
От гвардейских офицеров требовался особый шик как в служебное, так и неслужебное время. В первой части «Анны Карениной» Толстой описывает разгульную жизнь офицера гвардии графа Вронского, типичную для молодого аристократа.
На всех военных и придворных церемониях гвардии принадлежало первое место, а ШЕФОМ ПОЛКА, то есть почетным командиром старейшего гвардейского полка - Преображенского - формально числился сам император.
Бабушка Райского в «Обрыве» Гончарова мечтает видеть внука в гвардейском мундире. В «Войне и мире» княгиня Друбецкая выхлопотала определение в гвардию своему единственному сыну Борису: потом оказывается, что не на что его обмундировать, и ей приходится выпрашивать деньги.
Быть переведенным из гвардии в армию считалось наказанием. Петрушу Гринева из «Капитанской дочки» Пушкина, записанного гвардии сержантом, крутой отец посылает в армию: «Пускай послужит в армии, да потянет лямку, да понюхает пороха ». Таким образом Гринев оказывается в затерянной Белогорской крепости, где одноглазый поручик допытывается у него, не переведен ли он в армию «за неприличные гвардии офицеру проступки ». Прецедент налицо: за убийство на дуэли в далекий армейский гарнизон переведен из гвардии Швабрин.
  
|
«...Каждый раз, когда я ухожу от настоящего и возвращаюсь к прошедшему, я нахожу в нем значительно больше теплоты. Разница в обоих моментах выражается одним словом: любили. Мы были дети 1812 года.
Принести в жертву все, даже самую жизнь ради любви к отечеству было сердечным побуждением. Наши чувства были чужды эгоизма. Бог свидетель этому...», – писал на склоне лет в своих воспоминаниях декабрист М. И. Муравьев-Апостол .
115 будущих декабристов были участниками войны России с наполеоновской армией. Среди них и А. Ф. фон дер Бриген.
16-летним юношей он вступил в лейб-гвардии Измайловский полк. С этим полком связана вся его военная служба, которую он начал подпрапорщиком 14 декабря (символическая дата для будущего декабриста!) 1808 года. Военная карьера Бригена продвигалась довольно быстро: через год он уже портупей-прапорщик, спустя почти два года – прапорщик, через полгода, в апреле 1812 года, произведен в подпоручики, в этом чине и встретил войну с Францией. 7 декабря 1813 года Александру Федоровичу присвоено звание поручика, спустя почти три года он стал штабс-капитаном, в феврале 1819 года – капитаном, а 3 мая 1820 года произведен в полковники. Тогда ему не было еще и 28 лет. В чине полковника Бриген в 1821 году вышел в отставку. Сведения о его продвижении по военной лестнице содержатся в «Формулярном списке о службе лейб-гвардии Измайловского полка полковника фон дер Бригена» .


Со своим полком Александр Федорович принимал участие в основных сражениях времен войны с наполеоновской Францией в 1812 – 1814 г. г. Особо отличились измайловцы в Бородинской битве 26 августа 1812 года. Сначала они были в резерве, но потом их (вместе с Литовским и Финляндским полками) выдвинули на Семеновские высоты. Не успели полки построиться, как их внезапно атаковали французские кирасиры, которых Наполеон называл «железными».

Натиск «непобедимой кавалерии» Мюрата удалось отбить, но спустя некоторое время латники, усиленные конными гренадерами, снова пошли в атаку. Русские войска стройными залпами отбросили неприятеля, понесшего огромные потери. Когда кавалерийские атаки наполеоновской армии захлебнулись, французы открыли по русским полкам многочасовой огонь из 400 орудий. Засвистела вражеская картечь, многие гвардейцы были убиты и ранены, контужен в грудь и 20-летний подпоручик Александр фон дер Бриген. После мощного артиллерийского обстрела французы снова атаковали ослабленных защитников Семеновских высот, пытаясь разгромить левый фланг русских войск. Но гвардейцы и на этот раз выдержали атаку. Потерпев третью неудачу, Мюрат не решился вновь отправлять свою кавалерию на верную гибель. Французы ограничились лишь высылкой отдельных стрелков. К вечеру на подмогу гвардейцам прибыли русские кавалеристы, вместе с которыми французов обратили в бегство. «Неприятель, с крайним уроном, прогнан огнем и штыком, – писал в донесении М. И. Кутузову генерал Д. С. Дохтуров, командовавший левым крылом русской армии. – Одним словом, полки Измайловский и Литовский покрыли себя, в виду всей армии, неоспоримою славою». 176 измайловцев погибли в Бородинской битве, 73 пропали без вести, 528 гвардейцев получили ранения. Все офицеры полка получили награды, подпоручик фон дер Бриген «за отличную храбрость награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость» .
После Бородинской битвы Измайловский полк отступил через Москву к Тарутинскому лагерю, где отдыхал до начала октября. Бриген, несмотря на контузию, остался в строю.
В октябре вместе с русской армией измайловцы двинулись в контрнаступление. В декабре они вошли в Вильно, где стали готовиться к заграничному походу. 1 января 1813 года гвардейцы преодолели Неман и вступили на территорию Пруссии. Через три месяца они уже были в Дрездене. Но в апреле–мае антинаполеоновская коалиция потерпела поражение под Люценом и Бауценом. Понесли потери и измайловцы. После непродолжительного перемирия союзные войска в начале августа снова развернули наступление.
К середине августа русско-прусско-австрийские войска оказались в опасном положении. Потерпев поражение под Дрезденом, союзная армия вынуждена была отступать. Но обстановка, сложившаяся на театре военных действий, грозила антинаполеоновской коалиции окружением и разгромом, а то и полным уничтожением при отступлении. Тогда на военном совете было принято решение прикрыть отход армии союзников силами русских гвардейских полков: «Гвардии не предстоит славнейшего подвига как принести себя в жертву для спасения всей остальной армии». Гвардейцы с честью выполнили эту задачу. Вместе с лейб-егерями измайловцы взяли Цегист и защищали захваченные позиции в течение 10 часов. Это дало возможность основным силам союзной армии дойти до Кульма (город в Богемии, ныне это территория Чехии).
В 10 часов утра 17 августа 1813 года началась знаменитая Кульмская битва. Французы атаковали деревни Пристен и Страден. Защищали их гвардейские полки. Несколько часов бой продолжался с переменным успехом, деревни переходили из рук в руки. Русские полки несли огромные потери. Под угрозой оказался прорыв позиций русских войск. А в резерве оставалось лишь несколько гвардейских батальонов. Именно в тот момент генерал Ермолов заявил, что «гвардия уничтожается», а это неизбежно приведет к гибели всей армии. Но, учитывая опасность, в бой все-таки бросили два резервных батальона измайловцев.

«Все поле сражения покрылось неприятельскими трупами, ближайшие французские колонны обратились в бегство, вся линия русских войск подалась вперед; со всех батарей, стоявших на позиции, была открыта сильная канонада». Французы, не выдержав атаки, бежали в рощу. Гвардейцы преследовали их и добивали штыками. Бой продолжался до 8 часов вечера.
Гвардейцы спасли всю армию. Перелом в той битве стоил измайловцам многих жертв – погибли 53 и ранены около 500 гвардейцев. Командир полка Храповицкий получил несколько штыковых ударов и ранен картечью в ногу. Подпоручик Александр фон дер Бриген был ранен пулей в голову, но поле боя не покинул.
18 августа обессиленная гвардия в бою не участвовала, а только преследовала отступавших наполеоновские войска. Французский корпус был окружен, в плен взяли маршала Вандама, пять генералов, 12 тысяч солдат и офицеров, захватили французские орудия и обоз.
«Кульмское сражение решительно положило предел успехам Наполеона. С того времени все военные предприятия его были неудачны», – отмечал А. И. Михайловский-Данилевский. Измайловскому полку за проявленное мужество пожалованы две серебряные Георгиевские трубы. Награды получили и все отличившиеся в бою офицеры и солдаты. Александр фон дер Бриген за храбрость отмечен орденом Св. Князя Владимира 4-й степени с бантом и знаком прусского Железного креста (Кульмским крестом) .


После Кульма Измайловский полк участвовал еще в ряде сражений, продвигаясь «чрез Саксонию, Королевство Вестфальское к нижнему Рейну» . Здесь, в Германии, Бригену довелось побывать на вестфальских землях своих дальних предков. А потом вместе с полком почти на три месяца он остановился во Франкфурте-на-Майне, где познакомился с российским комиссаром Центрального административного аппарата союзных правительств Николаем Тургеневым. Это знакомство переросло в тесную дружбу. Во Франкфурте-на-Майне в конце 1813 года Александру Федоровичу, наряду с другими однополчанами, вручена серебряная медаль «В память отечественной войны 1812 года» на Андреевской голубой ленте .
1 января 1814 года гвардейцы перешли границу Франции и двинулись к Парижу. Во время боя 18 марта измайловцы находились в резерве, а на следующий день во главе со своим командиром генералом Храповицким торжественно вошли в Париж .
Расквартированные во французской столице, гвардейцы шумно праздновали победу. Но Александр Федорович увеселениям не предавался. Как он позже признавался в одном из писем, «жил в Париже отшельником» . К тому времени он был уже поручиком, жалованье ему повысили с 324 до 400 рублей [Примечание 1]. Деньги тогда были немалые, на них можно было безбедно жить, хотя и не роскошествовать. Но Бриген тратил их на книги. В Париже он начал собирать библиотеку, которая спустя годы, по отзывам современников, стала одной из самых лучших и богатых частных библиотек.
Во французской столице Бриген пробыл более двух месяцев, а потом вместе со своим полком отбыл в Нормандию, где из Шербура отплыл в Кронштадт, а оттуда в Ораниенбаум. 30 июля 1814 года измайловцы вместе с другим полками 1-й гвардейской пехотной дивизии во главе с императором торжественно вступили в Петербург, пройдя через Триумфальные ворота .

Начались служебные будни. Шефом Измайловского полка с 1800 года был великий князь Николай Павлович – будущий император Николай Первый. А в 1818 году он еще и принял непосредственное командование 2-й бригадой 1-й гвардейской пехотной дивизии, куда входил Измайловский полк. Склонный к муштре, Николай создал невыносимую обстановку в бригаде.
Вот как об этом вспоминал декабрист Н. И. Лорер: «Оба великие князя, Николай и Михаил, получили бригады и тут же стали прилагать к делу вошедший в моду педантизм. В городе они ловили офицеров; за малейшее отступление от формы одежды, за надетую не по форме шляпу сажали на гауптвахту; по ночам посещали караульни и если находили офицеров спящими, строго с них взыскивали… Приятности военного звания были отравлены, служба всем нам стала невыносимою! По целым дням по всему Петербургу шагали полки то на ученье, то с ученья, барабанный бой раздавался с раннего утра до поздней ночи… Оба в<еликие> к<нязя> друг перед другом соперничали в ученье и мученье солдат. Великий князь Николай даже по вечерам требовал к себе во дворец команды человек по 40 старых ефрейторов; там зажигались свечи, люстры, лампы, и его высочество изволил заниматься ружейными приемами и маршировкой по гладко натертому паркету. Не раз случалось, что великая княгиня Александра Федоровна, тогда еще в цвете лет, в угоду своему супругу, становилась на правый фланг с боку какого-нибудь 13-вершкового [Примечание 2] усача-гренадера и маршировала, вытягивая носки» .
Многим офицерам, которые участвовали в Бородинском, Кульмском и других сражениях, отличились на поле брани и у которых с их командирами сложились уважительные отношения, скрепленные узами боевого товарищества, дико было смотреть на солдафонские выходки Николая Павловича. Не раз они высказывали ему неповиновение. Особенно громкой стала «норовская история», случившаяся в 1822 году, уже после отставки Бригена. «Николай Павлович, – пишет М. В. Нечкина, – остался недоволен разводом двух рот и сделал в оскорбительной форме выговор ротному командиру В. С. Норову… [Примечание 3] Норова очень уважали в полку. Прославленный еще в Отечественную войну и заграничные походы (ранен под Кульмом), он был глубоко образованным офицером и пользовался большим авторитетом.
По отъезде великого князя все офицеры собрались к батальонному командиру Толмачеву и заявили требование, как пишет сам Николай Павлович Паскевичу, «чтоб я отдал сатисфакцию Норову». Речь шла, по-видимому, ни больше ни меньше чем о вызове на дуэль оскорбителя. Поскольку Николай сатисфакции не «отдал», офицеры решили уйти в отставку.
В отставку сговорились уйти около двадцати офицеров. Решили подавать по два прошения об отставке в день через каждые два дня, бросили жребий, кому подавать первому. Шестеро успели привести намерение в исполнение. Подавшие в отставку были арестованы и переведены в армию… дело, грозившее великому князю большими неприятностями, удалось с трудом замять» .
С тех пор Николай возненавидел измайловцев. И эту злобу он выплеснул во время следствия и суда над декабристами. Н. И. Лорер удивлялся: «Странно непонятна месть императора Николая всем тем, которых он знал лично и коротко. Не приговором суда, а личным его указанием все лица, ему хорошо известные и, как нарочно, менее других виновные, как-то: Бригген, Норов, Назимов, Нарышкин – были строже наказаны, чем другие» . Но в этом нет ничего удивительного: император не смог забыть унижения перед измайловцами, да и «предательство» офицеров его полка, всех, кому он ранее покровительствовал, вызвало у него неприкрытую ненависть [Примечание 5].
ПРИМЕЧАНИЯ
1
. С 1802 по 1817 годы годовое жалованье прапорщика Измайловского полка было 205 руб., подпоручика – 324 руб., поручика – 400 руб., штабс-капитана – 507 руб., с 1817 по 1824 годы жалованье капитана составляло 900 руб., полковника – 1200 руб. .
2
. Вершок приблизительно равен 4,45 см. То есть 13 вершков это около 58 см. Неужели такого роста были гренадеры? Да и в «Муму» Тургенева о глухонемом богатыре-дворнике Герасиме говорится, что он был «мужчина двенадцати вершков роста»? Стало быть, рост Герасима едва превышал полметра? Но такая «несуразность» встретилась не только у Тургенева! Вот и в «Идиоте» Достоевского читаем о том, что в компании Рогожина явился «какой-то огромный, вершков двенадцати, господин»... В этом же романе Раскольников насмешливо называет своего приятеля, долговязого Разумихина, влюбленного в Дуню, «Ромео десяти вершков росту». В «Сказке для детей» Лермонтова о величавом старике - хозяине большого дома говорится: «Он ростом был двенадцати вершков». Двенадцати- и пятнадцативершковые гиганты обнаруживаются в русской литературе в изобилии. В «Что делать?» Н.Г. Чернышевского: «Никитушка Ломов, бурлак, был гигант 15 вершков росту, весил 15 пудов». О Головане, герое рассказа Лескова «Несмертельный Голован», узнаем: «В нем было, как в Петре Великом, пятнадцать вершков».
«Дело в том, что в старину рост человека часто определялся в вершках свыше обязательных для нормального человека двух аршин (то есть выше 1 м 42 см). Таким образом, рост Герасима в «Муму» постигал 1 метра 95 см, рост Никитушки Ломова почти 2 м 09 см и т. д. Остальные примеры нетрудно перевести в сантиметры с помощью несложных арифметических действий по формуле: вершки в сантиметрах плюс 142 см» .
3
. Рассказывают, что, подойдя к В. Норову, Николай Павлович якобы намеревался по своему обыкновению ущипнуть того, однако Норов не позволил ему этого сделать. Д. Завалишин так описал этот инцидент: «Раз великий князь, разгорячившись, забылся до того, что взял Норова за пуговицу. Норов оттолкнул руку, сказав: «Не трогайте, Ваше Высочество. Я очень щекотлив» . Через несколько дней Николай снова придрался к Норову и топнул ногой, забрызгав тому мундир грязью. Оскорбленный Норов подал прошение об отставке и вызвал цесаревича на дуэль.
4
. Этот инцидент стоил Норову 6 месяцев гауптвахты. Однако скандал дошел до императора Александра I, который пристыдил младшего брата за непорядочный поступок и заставил Николая Павловича уговорить Норова забрать прошение об отставке. Александр I даже произвел Норова в подполковники, хотя тот вынужден был уйти из гвардии.
5
. Особенно отыгрался Николай I на В. С. Норове. Д. И. Завалишин в своих воспоминаниях со слов Норова так описал его встречу с новым императором после ареста по делу декабристов: «…когда Норова… привезли во дворец, то Николай Павлович до того разгорячился, что сказал: «Я знал наперед, что ты, разбойник, тут будешь», и начал его осыпать бранью. Норов сложил руки и слушал хладнокровно. Бывший тут свидетелем командир гвардейского корпуса Воинов старался успокоить государя, у которого от сильного раздражения пересекся голос. Воспользовавшись этим, Норов, и сам внутренне взбешенный, перешел, как рассказывал, в наступательное положение и сказал: «Ну-ка еще. Прекрасно. Что же вы стали? Ну-ка еще. Ну-ка». Государь вышел из себя и закричал: «Веревок. Связать его». Воинов, видя, что сцена дошла до неприличия, забылся и сам, вскричав: «Помилуйте, да ведь здесь не съезжая», схватил Норова за руку и утащил из кабинета» .
ИСТОЧНИКИ
1
. Воспоминания и письма М. И. Муравьева-Апостола // Мемуары декабристов. Южное общество: Собр. текстов и общ. редакция И. В. Пороха и В. А. Федорова / М.: Изд-во Московского университета, 1982. – С. 177 – 178.
2
. Восстание декабристов: Документы // Т. XIV / М., 1976 – С. 424 – 425.
3
. История лейб-гвардии Измайловского полка: Сост. капитан Н. Зноско-Боровский 1-й / СПб.: Типография П. Е. Лобанова, 1882. – С. 57 – 64, 295; Краткая история лейб-гвардии Измайловского полка / СПб.: Военная типография Главного Штаба Его Императорского Величества, 1830. – С. 37 – 43; Висковатов А. В. Историческое обозрение лейб-гвардии Измайловского полка. 1730 – 1850 / СПб.: Типография Главного Управления Путей Сообщения и Публичных Зданий, 1851. – С. 179 – 180, Приложение IV, с. XI; Елагин Н. Лейб-гвардии Измайловский и Литовский полки в Бородинской битве / Санкт-Петербургские ведомости. – 1845. – № 34; Восстание декабристов: Документы // Т. XIV, с. 425; Павлова Л. Я. Декабристы – участники войн 1805 – 1814 г. г. / М.: Наука. 1979. – С. 37.
4
. История лейб-гвардии Измайловского полка: Сост. капитан Н. Зноско-Боровский 1-й / СПб.: Типография П. Е. Лобанова, 1882. – С. 71 – 81, 285; Краткая история лейб-гвардии Измайловского полка / СПб.: Военная типография Главного Штаба Его Императорского Величества, 1830. – С. 45 – 57; Висковатов А. В. Историческое обозрение лейб-гвардии Измайловского полка. 1730 – 1850 / СПб.: Типография Главного Управления Путей Сообщения и Публичных Зданий, 1851. – Приложение IV, с. XVII; Восстание декабристов: Документы // Т. XIV, с. 425; Павлова Л. Я. Декабристы – участники войн 1805 – 1814 г. г. / М.: Наука. 1979. – С. 68; Л. Л. Ивченко. К 200-летию битвы при Кульме / Русская история. – 2013. – № 2.
5
. Восстание декабристов: Документы // Т. XIV, с. 425.
6
. Там же; Шкерин В. А. Уральский след декабриста Бригена / Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. – С. 21 – 22; История лейб-гвардии Измайловского полка: Сост. капитан Н. Зноско-Боровский 1-й / СПб.: Типография П. Е. Лобанова, 1882. – С. 83.
7
8
. Бриген А. Ф. Письма. Исторические сочинения: Подгот. изд. и вступ. ст. О. С. Тальской / Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1986. – С. 351.
9
. История лейб-гвардии Измайловского полка, с. 84.
10
. Лорер Н. И. Записки моего времени. Воспоминание о прошлом // Мемуары декабристов: Сост., вступ. ст. и ком. А. С. Немзера / М.: Правда, 1988. – С. 326 – 327.
11
. Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы / М.: Худож. лит., 1977. – С. 310 – 311.
12
. Лорер Н. И. Указ. соч., с. 440.
13
. Краткая история лейб-гвардии Измайловского полка, с. 70.
14
. Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков или энциклопедия русского быта XIX века / М.: Флинта, Наука, 2001. – С. 41 – 43.
15
. Завалишин Д. И. Записки декабриста: 2-е рус. издание / СПб.: Типография Т-ва М. О. Вольф, 1910. – С. 241.
16
. Завалишин Д. И. Указ. соч., с. 241.
Александр КУПЦОВ
Даты даны по старому стилю.